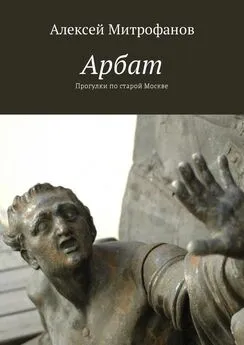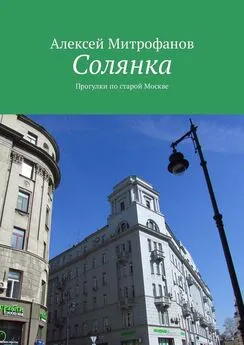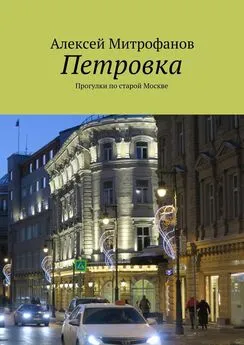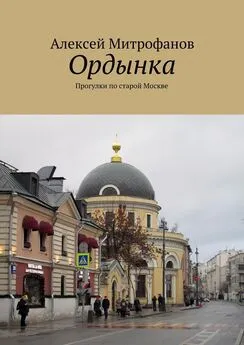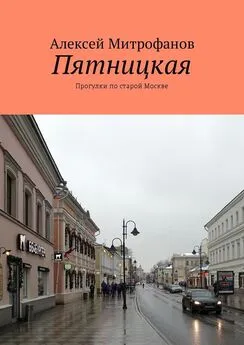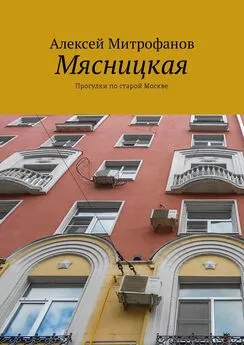Алексей Митрофанов - Арбат. Прогулки по старой Москве
- Название:Арбат. Прогулки по старой Москве
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Ридеро
- Год:неизвестен
- ISBN:9785448585883
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Митрофанов - Арбат. Прогулки по старой Москве краткое содержание
Арбат. Прогулки по старой Москве - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Первая достопримечательность – бывшая Ленинка, а ныне – РГБ (Российская государственная библиотека). Впрочем, многие так по сей день ее по старинке величают Ленинкой. Ни в коей мере, разумеется, не декларируя свои пристрастия к учению и идеям Ленина – просто название давно уж отделилось от фамилии вождя большевиков и выстроило свою собственную биографию.
А до Ленинки на этом месте помещалось здание главного архива Министерства иностранных дел, одного из престижнейших учреждений дореволюционной Москвы.
Этот архив был с историей. Один из его сотрудников, А. Кошелев, писал: «Архив прослыл сборищем блестящей московской молодежи, и звание „архивного юноши“ сделалось весьма почетным».
Все началось при Павле Первом.
Дело в том, что издавна в среде российского дворянства было заведено с рождения отдавать детей в престижные полки. Парень еще под стол пешком ходил, а уже обладал приличным офицерским чином. Нужно это было для того, чтобы, когда придет момент действительно идти на службу, звание было таким высоким, чтобы вместо тягот и лишений получать одни лишь удовольствия.
Император же решил этому делу положить конец. Д. Н. Свербеев вспоминал: «Павел в первые дни своего царствования потребовал списки, и сержантов гвардии, находившихся дома в отпуску, оказалась целая тысяча, если не более. Всем им было велено явиться в Петербург на смотр императору. Можно себе представить великий страх батюшек и матушек, бабушек и мамушек вести грудных или ползающих детей на смотр Павлу. Государю доложили о такой невозможности, и он одним почерком пера всех их выключил, но в гражданскую службу долго еще записывали семилетних…»
Тогда заботливые папеньки и маменьки нашли выход из ситуации: они стали пристраивать своих любимых отпрысков в архив. Служба непыльная и, кроме того, неплохой старт в дипломатической карьере.
Зачисление в архивисты было настоящим праздником, увы, доступным далеко не каждому. Писатель М. А. Дмитриев
с восторгом вспоминал: «Когда мать моя была еще очень молода и жила в Саратове, у ней была там приятельница Анна Петровна Левашова… Узнавши обо мне, т. е. о существовании сына ее молодой подруги, она вздумала оказать ей знак своей любви и памяти и записала меня в 1805 году марта 8-го в московский архив иностранной Коллегии, куда меня приняли архивариусом, чином 12-го класса. Вдруг получена была на почте маленькая шпажка и уведомление об этом от дяди. Все были в восторге и решили тотчас сшить мне мундир… У дяди Сергея Ивановича были пуговицы с гербом Лифляндской губернии; на первый случай сделали мне зеленый мундир с красным казимировым воротником и с этими пуговицами. Потом, когда получили известие о настоящей форме, сшили мне другой, с черным бархатным воротником и посеребренными пуговицами, который мне, однако, не так нравился, как прежний, потому что тот, с красным воротником, был похож на военный. Таким образом, по большим праздникам я ходил к обедне и щеголял дома в мундире. Потом именным указом от 24 февраля 1806 г. я был уволен в отпуск, „до окончания наук“, как было сказано в указе, т. е. до окончания курса учения».
Неудивительно – Дмитриеву в это время было только девять лет.
Архив сразу же изменился до неузнаваемости. Один из его сотрудников, Ф. Вигель, так описывал свое место работы: «По разным возрастам служивших в нем юношей и ребят можно было видеть в нем и университет, и гимназию, и приходское училище; он был вместе и канцелярия, и кунсткамера. Самая ранняя заря жизни встречалась в нем с поздним ее вечером; семидесятилетний надворный советник Иванов сидел близко от одиннадцатилетнего переводчика Васильцовского; манерные, раздушенные Евреиновы и Курбатовы писали вместе с Большаковыми и Щученковыми, которые сморкались в руку. Подле князя Гагарина и графа Мусина-Пушкина, молодых людей, принадлежавших к знатнейшим фамилиям в Москве, вы бы увидели Тархова, в старом фризовом сюртуке, того урода, который наделял нас работой и, во мзду своей снисходительности, выпрашивал у нас старое исподнее платье и камзолы».
Одних только князей Голицыных в те времена было четырнадцать персон.
Большинство «архивных юношей», конечно, не изобретали пороха. Все тот же Вигель сообщал: «По большей части все они, закоренелые москвичи, редко покидают обширное и великолепное гнездо свое и преспокойно тонут или потонули в безвестности. Ни высокими добродетелями они не блистали, ни постыдными пороками не запятнались; если имели некоторые странности, то общие своему времени и месту своего жительства».
А исключения можно было, что называется, пересчитать по пальцам.
Конечно, работы на всех не хватало. Ее приходилось выдумывать. Николай Иванович Тургенев писал: «Вчера был
я в Архиве и занимался перетаскиванием столбцов из шкапов в сундуки. Какой вздор! Чем занимаются в Архиве; и еще Каменский сердится, зачем редко ездят… Там есть переводчики, которые не переводят, а переносят (старые столбцы). (Горчаков возил столбцы на рогожке!) Следовательно, из переводчиков делаются переносчиками или перевозчиками».
А еще время от времени в архиве проводилось что-то наподобие экзаменов. Притом сотрудники были обязаны давать ответы, слово в слово совпадающие с записанным в особом руководстве.
« – Что есть история?
– История есть повествование прошедших достопамятностей.
– Каким образом история различается от летописи?
– Летопись показывает только, в котором году что случилось; история же, повествуя о делах, представляет вместе,
с каким намерением и каким образом они произведены были».
И так далее.
Впрочем, многие сотрудники архива находили здесь свое призвание. Александр Иванович Тургенев (брат уже упомянутого Николая Ивановича), например, писал: «Я опять роюсь в здешнем Архиве и живу с Екатериной II, Фридрихом II, Генрихом Прусским, Потемкиным, Безбородко, а еще какие сокровища! Какая свежая и блистательная история! Без сего Архива невозможно писать истории Екатерины, России, Европы. Сколько в нем истинных, сколько искренних причин и зародышей великих и важных происшествий XVIII столетия. Какая честь для дельцов того времени, и сколько апологий можно бы составить для важнейших дипломатических исторических вопросов!»
Таких специалистов было за уши не оторвать от стеллажей и папок.
Сотрудники архивов раздражали общество. Фаддей Булгарин дал им отповедь в своем романе «Иван Выжигин»: «Чиновники, не служащие в службе, или матушкины сынки, т. е. задняя шеренга фаланги, покровительствуемой слепою фортуною. Из этих счастливцев большая часть не умеет прочесть Псалтыри, напечатанной славянскими буквами, хотя все они причислены в причт русских антиквариев. Их называют архивным юношеством. Это наши петиметры, фашьонебли, женихи всех невест, влюбленные во всех женщин, у которых только нос не на затылке и которые умеют произносить: oui и non. Они-то дают тон московской молодежи на гульбищах, в театре и гостиных. Этот разряд также доставляет Москве философов последнего покроя, у которых всего полно через край, кроме здравого смысла, низателей рифм и отчаянных судей словесности и наук».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: