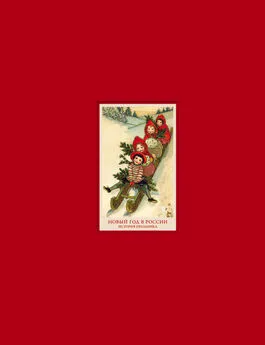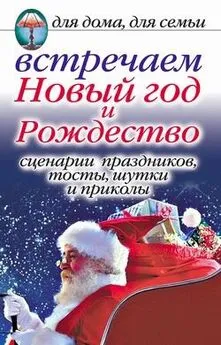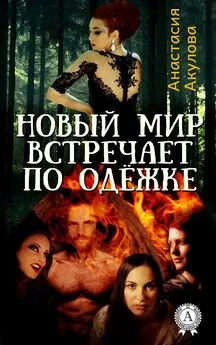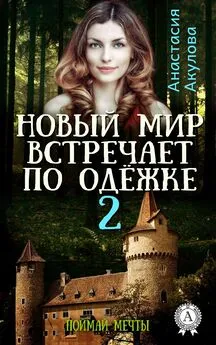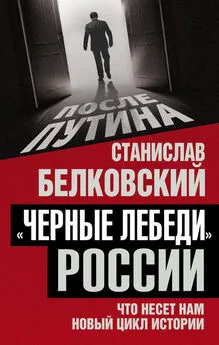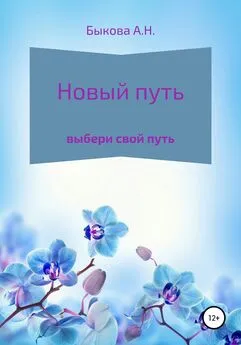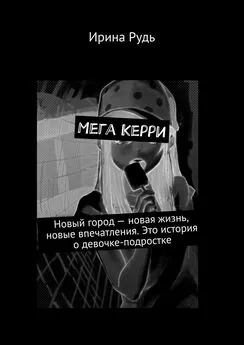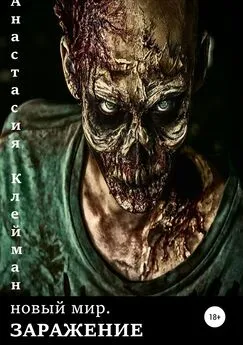Анастасия Углик - Новый год в России. История праздника
- Название:Новый год в России. История праздника
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «5 редакция»
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-699-85867-5, 978-5-699-85868-2, 978-5-699-85870-5, 978-5-699-85871-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анастасия Углик - Новый год в России. История праздника краткое содержание
Новый год в России. История праздника - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
X–XVIII века

Хронология Нового года
X–XVIII века
Отношения с календарем в нашей стране издревле были непростыми. Россия за свою относительно молодую историю перебрала пять способов летоисчисления, и переход ни на один из них не давался народу легко и безболезненно. Дата Нового года также двигалась по всему годовому циклу несколько раз, следуя за земледельческим календарем, упрямством церковных властей и пассионарной волей великих правителей.
Празднование Нового года у земледельческих народов (к которым относилось абсолютное большинство населения Европы) всегда связывалось с началом полевых работ. В Древнем Риме, который задавал тон в начале нашей эры, его отмечали в месяце марте, от которого и шло летоисчисление. Аграрный смысл мартовского времени в условиях Средиземноморья совершенно ясен: этот месяц воспринимался земледельческими народами как начальная дата одного из важнейших периодов года, может быть, даже более существенная, чем январское возрождение солнца. По существу, март и январь имели сходное значение дат, открывающих счет времени, но с марта можно было начинать обрабатывать землю.
Климат же наших территорий, во-первых, очень разнообразен (что не дает возможности установить дату Нового года для всех и сразу), а во-вторых, куда более суров, чем итальянский. В календарном марте снег может лежать даже в самых южных, черноземных районах. Так что, по всей видимости, древние обитатели этих земель начинали свой новый год с того месяца, когда весна приходила в их местность. У якутов, например, народный Новый год приходился на май (поздняя весна и позднее начало работ), а у монголов, которые находятся в совершенно других климатических условиях, «цагаан сар – белый месяц» попадал на февраль. В средней же и северной России март никогда не был месяцем начала полевых работ «На Еремея (1 мая) – ленивая соха в поле выезжает» – говорит народная пословица. Украинский сельскохозяйственный календарь говорит, что 25 марта земля открывается «на сеянье»: «до благовещенья не начинали севбы на нивах, и поспешали кончать оранку на ярину; а на благовещенском тыждне – вдовий плуг».
И тем не менее в средневековой Руси до середины XIV века Новый год справлялся 1 марта. Впрочем, это не отменяло того факта, что в декабрьские и январские дни народная обрядность расцветала самым пышным цветом. И все это несмотря на неодобрение, а часто и прямые запреты церкви, а вслед за ней и светских властей. Русское самосознание складывалось на территориях средней и северной Руси, и здесь в бытовом обиходе одновременно присутствовали обе даты Нового года – и официальная, и не очень. Но и остальные земли не отставали: зимнее солнцестояние было самым любимым временем в деревне – бытовые заботы отходили на второй план, и начинались праздники.

Праздничные катания, 1780-е годы
В памятниках древней литературы мы находим упоминания о такой двойной системе отсчета начала года. Близкие к языческим временам источники переломным часто назначают святочный период, и тот факт, что он совпадает с Рождеством, а все остальное летоисчисление благополучно ведется от сотворения мира, никого не смущал. Дело было совсем не в недавно укоренившемся христианском празднике, а в пережитках солнечного культа, который еще сохранял свою силу.
То ли в 1348 году, то ли в конце XV века (ученые до сих пор спорят по этому поводу) православная церковь перенесла начало года на первое сентября. Это соответствовало указу Никейского собора и было ближе по смыслу к земледельческим реалиям – в первый осенний месяц как раз заканчивали собирать урожай и начинали готовиться к зиме. Но у церковников были свои резоны: они хотели утвердить свое значение в личной жизни каждого человека. Поэтому дата нового Нового года была определена священной историей, а не сельскохозяйственным календарем.
1 сентября 312 года византийский император Константин Великий разгромил римского императора Марка Аврелия Максенция (не путать с великим полководцем Марком Аврелием Антонином) в битве у Мульвиева моста на Тибре. Эта убедительная победа первого христианского императора позволила отцам Вселенского собора, состоявшегося в 325 году, назначить 1 сентября днем «памяти начала свободы христианской».
В православном календаре эта дата сохранилась по сей день. Она отмечена праздником Симеона-столпника, которого на Руси называли Семен-Летопроводец. К его дню было принято подбивать все договоренности, собирать все оброки и подати, завершать судебные разбирательства и оплачивать долги. Но никаких специальных праздничных ритуалов эта довольно искусственная для Руси дата еще сто лет не удостаивалась.
Все изменилось в 1497 году, когда Великий князь всея Руси Иоанн III Васильевич принял новый свод законов, Судебник, где, кроме всего прочего, зафиксировал постановление Московского собора «считать за начало как церковного, так и светского нового года 1 сентября». Отмечал он его так же, как когда-то Константин Великий, – устраивал открытый прием в Кремле. В этот день любой страждущий мог прийти, поклониться государю и попросить у него защиты или помощи в решении конфликта. Споры на таких собраниях в основном обсуждались имущественные или чиновничьи. Кроме такого щедрого новогоднего подарка своим подданным, Великий князь повелел устраивать им и зрелища – 1 сентября начинало обрастать церемониями.
Уж вы, кумушки, мои голубушки!
Вы которому святителю молилися,
Вы которому чудотворцу обещалися?
Что у вас-то мужья молодые,
У меня ли, у младеньки, старичище.
Не пускает старичище на игрище.
Я уходом от старова уходила,
Под полою цветно платье уносила,
У соседа под навесом одевалась,
Я белым-то снежком умывалась,
Я кисейным рукавом утиралась.
Я не долго и не мало проходила:
Со вечерней зари до бела дня.
Я не знаю, как старому подъявляться.
Уж я утушкой прилетала,
А касаточкой подъявлялась.
Уж я бряк-то, бряки у калитки,
Уж я стук-то, стуки за колечко,
Как за то ли золотое за витое.
Как не лютые медведи заревели,
Не борзые ли собаки завизжали –
Заревел-то мой старый старичище,
Солезает старичище со печища,
Он снимает с черна крюка плетище,
Он бьет ли, не бьет полегоньку,
Что на каждое место по десятку,
Как и тут я старому возмолилась:
«Ты прости, сударь, меня, я не буду;
Как другой-то раз уйду, – я не приду!»
Интервал:
Закладка: