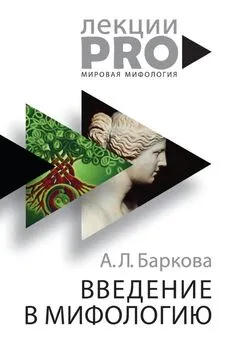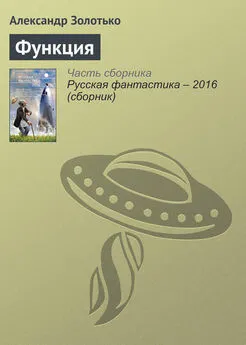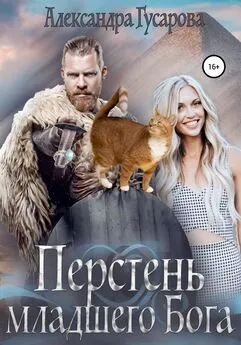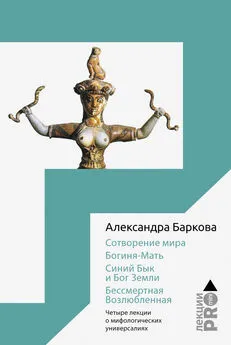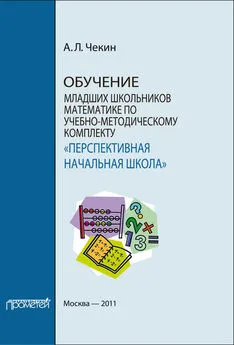Александра Баркова - Функции младших героев в эпическом сюжете
- Название:Функции младших героев в эпическом сюжете
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александра Баркова - Функции младших героев в эпическом сюжете краткое содержание
Функции младших героев в эпическом сюжете - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Итак, Энкиду гибнет. Гильгамеш бежит в пустыню, а затем начинает долгие поиски бессмертия, странствуя за пределы мира, посещая сад камней, общаясь с избежавшим потопа Ут-Напиштимом (табл. IX, стлб. V, 47-51; табл. X). Мы ясно видим структурное тождество поэмы Син-лике-уннинни и второй части "Пополь Вух": нисхождение главного героя в преисподнюю после гибели "младшего". Однако Гильгамеш ищет не воскрешения для Энкиду (как Хун-Ахпу и Шбаланке для отцов), а бессмертия для людей и лично для себя – то есть здесь на архаичную сюжетную схему (о глубине архаики свидетельствует сближение эпоса вавилонян и индейцев ) накладывается авторская философская проблематика – поиски Гильгамеша заканчиваются неудачей, что в эпосе встречается крайне редко [Дьяконов. С. 308-310]. Даже не зная имени Син-лике-уннинни, мы распознаем авторскую обработку сказаний (С.Н. Крамер подробно писал о шумерских сказаниях о Гильгамеше, их отличии от вавилонской поэмы: История начинается в Шумере. М., 1991. С. 193-198).
Впрочем, сюжетные расхождения между "Пополь Вух" и поэмой о Гильгамеше можно объяснить и иначе: в индейском сказании герои спускаются в преисподнюю из-за слабого "младшего героя", которого, как мы убедились, воскрешают сравнительно часто; в то время как гибель героя-помощника всегда имеет черты заместительной жертвы, и его воскрешение невозможно. Точнее сформулировать так: герой-помощник не всегда гибнет, но если гибнет – то всегда как заместительная жертва.
К поэме Син-лике-уннинни примыкает шумерское сказание, сюжетно не связанное с поэмой, однако объединенное с ней идейно и, как мы увидим, реализующее ту же схему. Это повествование о том, как Энкиду отправился в Нижний Мир за утраченными Гильгамешем барабаном и палочками, нарушил запреты пребывания там живых и, погибнув, вышел к Гильгамешу тенью [Крамер. С. 199-202]. Хотя основное содержание сказания составляет описание преисподней, о которой мертвый Энкиду рассказывает своему господину, для нас важно, что и здесь он выступает как заместительная жертва и младший герой одновременно, а картины "видений ада" опять же сближают это сказание со второй книгой "Пополь Вух".
* * *
С Энкиду схож индийский Хануман. Анализируя его образ, П.А. Гринцер приходит к следующим выводам: Хануман – наследник волшебного помощника, имеющего зооморфные черты, а его путешествие на Ланку (обитель смерти) до Рамы и отчасти вместо Рамы может быть сопоставлено с обрядовым умерщвлением животного вместо человека [Гринцер. С. 233]. На Ланке Хануман едва ни гибнет, схваченный ракшасами; кроме того, путь на Ланку имеет явные признаки путешествия через Воды Смерти. Черты "младшего героя" в образе Ханумана дополняются чертами советчика главного героя; в отличие от Лакшманы, который выходит на бой вместо Рамы (то есть Рама вполне мог бы выйти на этот бой сам), Хануман совершает то, что Рама совершить никак не может, – он отправляется на Ланку как разведчик, на мифологическом уровне снимая границу между иным и Средним миром. Всё это характерно для героя-помощника.
Сходство Энкиду с Хануманом выявляет сюжетную ситуацию, в которой герой-помощник особенно нужен главному: это путешествие в потусторонний мир. Независимо от того, гибнет помощник или нет, он добывает для главного героя важнейшие сведения о запредельной стране.
Любопытно, что в народных версиях "Рамаяны" роль Ханумана существенно более значима: в сингальском, монгольском, малайском, китайском сказаниях именно Хануман возвращает Раме Ситу; кроме того, Хануману приписывается решающая роль в победе Рамы над Раваной – он разбивает сосуд, где хранится душа царя ракшасов (сиамское и малайское сказания), особым образом затачивает меч Рамы (филиппинское сказание), находит уязвимое место Раваны (китайское и монгольское сказания) [Гринцер. 1996. С. 82-83]. Отголоски этого есть и в "Рамаяне" Вальмики – Хануман предлагает Сите бежать, но она объясняет причины, почему ее побег с Хануманом невозможен.
Вводя термин "едва-не-смерть" героя, П.А. Гринцер понимает под этим и гибель субститута (Энкиду при Гильгамеше), и несостоявшуюся гибель субститута (Хануман и Лакшмана при Раме), и несостоявшуюся гибель самого героя (как правило, герой всё же гибнет, но затем его воскрешают) [Гринцер. 1974. С. 229-233, 285] – такова гибель Рамы и Лакшманы от стрел Индраджита. Это отождествление гибели "младшего героя" и гибели главного героя обусловлено вниманием ученого не к сюжетной стороне, а к мифологической семантике – к различным формам реализации мотива временной смерти.
В "Махабхарате" в роли героя-помощника оказывается Гхатоткача – сын Бхимасены от ракшаси. Полуракшас, появляющийся на поле битвы по призыву своего отца и истребляющий вражеское войско не оружием, а когтями и зубами, он отчасти напоминает "косматых" Ханумана и Энкиду (О значимости косматости в их образах см. [Гринцер. 1974. С. 233]). Их роднит нечто большее, чем внешняя полу-зооморфность: все трое выступают в роли заместительной жертвы (Хануман – несостоявшейся). Любопытно, что Гхатоткача своей гибелью спасает не отца, а дядю (см. выше о дяде и племяннике): никто не может одолеть полуракшаса и тогда Карна поражает его волшебным дротиком, который он приберегал для Арджуны (по этому поводу ликует Кришна – сын Бхимасены погиб, значит, Арджуна спасен).
Весь ход битвы на Курукшетре может быть сопоставлен с "Песнью о Гильоме": Дурьодхана, будучи старшим из Кауравов и фактическим главой войска, не возглавляет армию лично, но назначает одного за другим Бхишму, Дрону, Карну и Шалью – каждого после смерти предыдущего, а сам остается в живых до конца сражения и бежит. Таким образом, битву мы можем рассматривать как бой главного героя и его помощников бок о бок, причем то, что Дурьодхана назначает их предводителями своего войска, их и губит – Пандавы убивают их одного за другим не потому, что желают им гибели, а из-за того, что они возглавляют войско Кауравов. Таким образом, мы вправе усматривать в образе воевод Дурьодханы черты заместительной жертвы. Любопытно, что этим "Махабхарата" противоположна "Похищению Быка": в ирландском эпосе сражается либо Кухулин, либо вереница "младших героев", либо Конхобар во главе всего войска, в индийском же все герои вступают в битву одновременно.
Это встречается и в европейском эпосе – таков Фергус, сражающийся против войск родного ему Улада, таков бой Гернота (Гизельхера) с Рюдегером. В "Махабхарате" (в "Бхагаватгите") готовность сражаться даже с родичем объясняется долгом кшатрия и принципом "незаинтересованного деяния", но сходство с европейскими памятниками заставляет нас объяснить этот сюжетный ход иначе: на архаическую враждебность героя к родичам накладывается относительно поздняя гуманистичность, смягчение яростного нрава – и это приводит к конфликту между долгом бойца и привязанностями человека. В этом смысле Кришна, произносящий "Бхагавадгиту" в оправдание боя против своих, менее человек, нежели Арджуна, не находящий в себе сил поднять оружие на родичей и учителей. Однако сюжет берет свое – и Арджуна бьется. Заметим здесь же, что пары Фергус и Кухулин – Бхишма и Арджуна чрезвычайно сходны, и если Кухулин отступает перед своим наставником по его просьбе, то Арджуна оказывает последние услуги умирающему Бхишме.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: