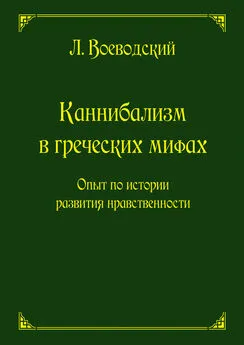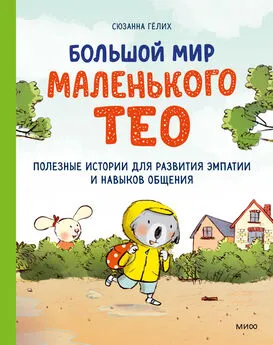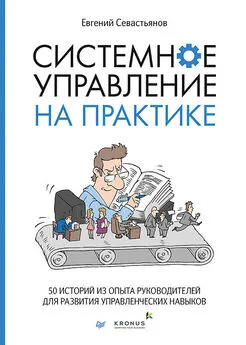Леопольд Воеводский - Каннибализм в греческих мифах. Опыт по истории развития нравственности
- Название:Каннибализм в греческих мифах. Опыт по истории развития нравственности
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Леопольд Воеводский - Каннибализм в греческих мифах. Опыт по истории развития нравственности краткое содержание
Мы восхищаемся подвигами Геракла и Одиссея, представляем себе красоту Елены Троянской и Медеи, мысленно плывем вместе с аргонавтами за золотым руном. Мы привыкли считать мифы Древней Греции образцом поэзии не только по форме, но и по содержанию. Однако в большинстве своем мифы, доступные широкой публике, значительно сокращены. В частности, в них почти отсутствуют упоминания о каннибализме.
Филолог-классик Л. Ф. Воеводский (1846 – 1901) попытался разрешить весь гомеровский эпос в солнечно-лунно-звездный миф и указать на мифы как на источник для восстановления древнейшей бытовой истории народа.
Текст восстановлен по изданию В. С. Балашева 1874 г., приведён в соответствие с нормами современного русского языка, проведены корректорская, редакторская правки с максимальным сохранением авторского стиля.
Каннибализм в греческих мифах. Опыт по истории развития нравственности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Особенно же мы должны остановиться на сравнении растерзанного Гиппия с молодым оленем. Что это сравнение является в рассказе Элиана не случайно, это видно на первый взгляд. Так как у него мы находим явное смешение с преданиями Дионисова культа, то в этом последнем придётся искать объяснения этой черты.
Тут мы находим, что сам Дионис сравнивался с оленем. [701] Он носил накинутую на плечи небриду, т. е. оленью кожу. [702] У Эврипида даже вакханки, услужницы его, сравнивают себя с молодыми оленями. [703] Очевидно, что сам Дионис сравнивался с молодым оленем только потому, что был сам растерзан подобно тому, как молодые олени растерзываются дикими зверями. Иной причины, почему бы он уподоблялся оленю, мы не находим. Из той важности, которую получило это сравнение в культе Диониса, мы заключаем, что оно было старинное, чисто народное выражение, употреблявшееся для означения подобной смерти, как та, которой подвергся Загрей. Поэтому сравнение с молодым оленем является столь важной чертой, что даже всюду, где только она встречается в совокупности хоть с немногими указаниями на смерть, мы прямо оттуда можем сделать заключение о роде этой смерти, сколько бы он ни был искажён в известном мифе. Эту черту мы находим во многих сказаниях, между прочим и в двух следующих.
Актеон.
Актеон, сын Аристея и известной нам уже Автонои, дочери Кадма, был превращён в оленя и вслед за тем растерзан своими собственными пятьюдесятью собаками на Кифероне, т. е. точно там же, где был растерзан и Пенфей. Причина его превращения и смерти передаётся самым различным образом, очевидно, потому, что в первоначальной форме мифа она или вовсе не упоминалась, или играла, как и вообще в большей части мифов о каннибализме, вполне второстепенную роль. У Овидия, у которого этот рассказ составляет одну из самых удачных частей его «Превращений», виновницей является, как известно, богиня охоты, Диана, так как присутствие такого громадного количества собак и превращение в оленя заставляло представлять себе всё дело происходившим во время охоты. [704] Что под собаками тут скрываются люди, это не может подлежать ни малейшему сомнению. Многие, связанные здесь с собаками, черты напоминают нам людей. Во‑первых, в различных рассказах приводятся (хотя и различно) их имена, что мыслимо только, если в более первоначальной форме мифа упоминались вместо них имена каких-нибудь лиц. [705] Во‑вторых, у Аполлодора сохранился даже рассказ о том, как эти собаки искали впоследствии своего господина, и как печаль их могла быть усмирена только тем, что для них было сделано изображение Актеона. [706] Наконец, количество их напоминает нам пятьдесят сыновей Ликаона, которые, вместе с отцом угощали Зевса мясом зарезанного ребёнка. Очевидно, что люди, растерзавшие и съевшие Актеона, превратились только со временем в собак, причём следует полагать, что переходной ступенью послужила одна из форм сказания, в которой люди только сравнивались с собаками.
Но мы имеем ещё одно, более прямое указание, что Актеон был растерзан людьми, а не собаками, именно у Плутарха, где он является только сыном не Аристея, а Мелисса (имя деревни близ Коринфа). Рассказ Плутарха особенно замечателен странностью мотива, которым объясняется смерть Актеона. Ираклид Архий влюбляется в Актеона, решается насильно похитить его у отца и приводит с этой целью целую толпу слуг и друзей с собой. «Отец и его родственники противились этому; прибежали ещё и соседи [и помогали] вырывать мальчика [из рук Архия], вследствие чего Актеон, будучи тянут в противоположные стороны, лишился жизни» . [707] Тут целая толпа родственников, слуг и соседей, разорвавших Актеона, есть, очевидно, те же пятьдесят собак, которые «ели Актеона и глотали кровь его» . [708] Кроме того, что здесь речь идёт о людях, эта форма сказания стариннее ещё и в том отношении, что Актеон является в ней ребёнком, в то время как другие сказания представляют его взрослым.
Мотив, объясняющий в рассказе Плутарха растерзание Актеона, мы назвали странным. Смерть Актеона причиняется не врагами, а своими, желавшими вырвать его из рук Архия и его товарищей, которые тоже не могут быть названы его врагами. Не представлялось ли множества других, менее натянутых мотивов, как, напр., смерть на войне, наказание Актеона за какое-нибудь преступление или что-либо подобное? На это можно, пожалуй, ответить, что наша редакция мифа желала удержать младенческий возраст Актеона, вследствие чего эти мотивы были неуместны. Но в таком случае мы ожидали бы иного объяснения смерти. Гораздо проще было бы, кажется, если бы Актеон был растерзан Архием из мести к его отцу за какую-нибудь обиду, как это и делается в других сказаниях. Тогда представлялась бы даже возможность сохранить гораздо больше черт первобытной формы сказания: Архий мог бы разорвать мальчика, сварить его и заставить даже отца есть мясо своего сына. Спрашивается, вследствие чего же в нашей форме мифа обойдены все тому подобные средства в пользу менее естественного объяснения? Следует полагать, что та, более первоначальная форма мифа, которая послужила основой Плутархова рассказа, не ограничивалась следующим содержанием: отец (или кто-либо другой) растерзал и съел ребёнка. По всему вероятию, там говорилось о пиршестве, на котором отец угощал родственников или друзей, одним словом, своих, мясом своего сына. Тогда и форма предания у Плутарха становится понятной. Да и в обыкновенном сказании об Актеоне, растерзанном своими собаками, мы не замечаем странности мотива только потому, что свыклись с этим рассказом. В сущности, однако, и там замечательно, что он не растерзан волками или чужими собаками, а, напротив, своими собственными.
Теперь, вследствие анализа мифа об Актеоне, мы получили новые данные для более верного понимания и мифа о Загрее, и некоторых других, близко с ним сродных. Стоит только взглянуть на них, чтобы убедиться, что и на их форму повлияло какое-то предание о каннибальском пиршестве, в котором отец пожертвовал своим ребёнком. Особенно ясно этот мотив сохранился в сказаниях о Пелопе, Ликаоне и некоторых других, которыми займёмся ниже.
Леарх и Меликерт.
По Аполлодору, беотийский царь Афамант имел две жены, Нефелу (облако) и Ино. Нефела рождает ему Фрикса и Эллу, Ино же Леарха и Меликерта. Ино, ненавидя Нефелу и детей её, придумывает, чтобы повредить Нефеле, следующее. Она засушивает зёрна, назначенные для посева, и производит таким образом неурожай. Афамант посылает за советом дельфийского оракула, но Ино подменяет изречение последнего другим, по которому оракул будто бы требовал, чтобы Афамант принёс сына Нефелы, Фрикса, в жертву Зевсу Лафистию. Тогда Афамант собирается исполнить это требование, но Нефела вовремя спасает своего сына и уходит с ним и с Эллой из Беотии. [709]
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: