Предлагаемые века - Смелянский, А.
- Название:Смелянский, А.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Предлагаемые века - Смелянский, А. краткое содержание
Смелянский, А. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Пристрастие Ефремова к новому автору следует объяснить. Петрушевскую не занимали темы, которые обсуждали в «доме на набережной» или в пьесах Шатрова и Гельмана. Ее интересовала не идеология, не верхушки жизни, а сама ее толща. Проблемную советскую драму она опровергала и пародировала всеми доступными театральному автору средствами. Ничего прямо не манифестируя, Пет- рушевская восстанавливала в своих правах саму материю живой жизни. Ту самую материю, на которой Ефремов когда-то сформировал «Современник» и самого себя как художника. С Петрушевской он возвращался на тридцать лет назад.
Союз с новым автором театра многое обещал, но он не стал прочным. После «Московского хора» в течение многих лет Ефремов ожидал от Петрушевской и от всех иных своих авторов «большой» пьесы, но так и не дождался. В годы свободы каждый имел возможность определиться. Александр Гельман вернулся в журналистику, Михаил Шатров покинул драматургию и стал процветать в бизнесе. Олег Ефремов ушел в классику. Было четыре спектакля, которые рождались трудно, если не мучительно: «Вишневый сад» (1989), «Горе от ума» (1992), «Борис Годунов» (1994) и «Три сестры», возникшие в 1997 году, накануне столетнего сезона МХТ. Мне, служившему в эти годы в Художественном театре, трудно оценивать ефремовские спектакли со стороны. Я пишу не критическое обозрение, а силуэт театральной судьбы одного из лидеров послесталинской сцены. Для этой цели не так важно, какой спектакль имел успех у критики, а какой не имел. Претензии Ефремова к нынешнему М)0\Т и к собственным спектаклям гораздо более глубоки, чем у любого из его оппонентов. Если б были силы, он готов был бы заново переставить Грибоедова, чтобы довести спектакль до той идеальной легкости, которая проявила бы замысел «горя от любви». Он бы переставил и «Бориса Годунова» (мечтает об этом), чтобы убрать неуклюжие «батальные сцены» и обнажить кровоточащий нерв пьесы о смутных временах России («хлестнула дерзко за предел нас отравившая свобода» — эта есенинская строчка стала едва ли не камертоном его пушкинского спектакля). В сущности, весь «Годунов» держался на ефремовском актерском подвижничестве (он сам играл царя Бориса), в очень малой степени поддержанном актерским ансамблем. Его одиночество в театре, его отношения с актерами, его тоска по совершенству и невозможность его достичь — все это вошло в «Годунова» непроизвольно, из того воздуха жизни, которым мы все дышим и который все в искусстве определяет.
Из того же воздуха возникли и «Три сестры», которые были встречены прессой с небывалым и давно забытым по отношению к Ефремову восторгом. «Хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспоривай глупца». При помощи Пушкина можно было бы описать реакцию Ефремова на критические похвалы.
«Три сестры» стали завершением чеховского цикла, растянувшегося почти на тридцать лет. Они итожат одну из центральных тем чеховских композиций. Условно ее можно обозначить как тему «дома и сада». В «Иванове», напомню, Ефремов и Боровский опустошили сцену: внутри было голо, ни прилечь, ни присесть, а дом становился загоном, в котором маялся чеховский интеллигент. Казалось, и это жилище, и этот сад, проросший в стены своими корявыми ветками, обречены. В «Чайке» люди жили в доме без стен, растворялись в саду. Дом замещала движущаяся беседка. В «Дяде Ване» Валерий Левенталь, развивая изобразительные мотивы «Чайки», как бы удваивал чеховский дом. На планшете сцены он был представлен в натуральную величину. Составленный из двух громадных створок (Ефремов не терпит статики), этот дом иногда со скрипом размыкался, разъезжался, разламывался, а потом вновь обретал непрочное единство. Но над этим реальным жилищем, в вышине на холме, жил своей жизнью другой дом или, если хотите, идея Дома. Это было человеческое жилище, увиденное в далекой перспективе. В том доме, вписанном в левитановский пейзаж, казалось, всегда тепло, вечно горит огонек, который виден отовсюду любому путнику. В «Вишневом саде» художник и режиссер вновь раздваивали видение дома: имение Гаева было представлено и в натуральную величину, и в виде макета (на сей раз прямо на авансцене). Тут был и игрушечный дом, и сад, и даже маленькая церквушка, которой можно было полюбоваться. Стены большого дома иногда брались на просвет, аккомпанируя воспоминаниям героев, стены как бы открывали свое прошлое. Но эта игра теней не заладилась, единое пространство спектакля не сложилось, а сама пьеса вдруг отозвалась какой-то вековой усталостью. Нового звука из нее режиссер не извлек.
Через восемь лет, вернувшись к отдохнувшему от них Чехову, Ефремов и Левенталь поставили дом на вращающийся круг. Человеческое жилище тут одухотворено, оно дышит, поворачивается и даже меняет свой цвет и колорит, отвечая на зов обновленного пространства. На сей раз это парк или огромный сад, передающий основные краски умирающей и возрождающейся природы. Времена года, их движение — не внешнее, а именно внутреннее, световое и цветовое. Стены Прозоровского дома окрашиваются белым цветом весны и багрянцем осени; они вбирают в себя темно-синий застылый цвет зимы и угарный, темно-красный свет вялого засушливого лета. Никогда еще с такой остротой Ефремов не ощущал слитность человеческой судьбы с круговоротом естественной жизни. Никогда еще в его искусстве не звучал так откровенно мотив усталости, расставания и ухода. Отчаяние трех сестер, их финальный тройной портрет в интерьере равнодушной природы, когда они цепляются друг за друга, а иное, властное движение разрывает и размыкает их союз, — этот сквозной мотив, знакомый по прежним чеховским спектаклям, обрел строгую форму и внутреннюю завершенность.
Пробиваясь к трагической простоте того, что называется «течением жизни», Ефремов потратил много сил на преодоление чеховских штампов, сковавших не одно поколение мхатовских актеров. Он попытался разрушить «чехов- щину», живущую, можно сказать, в воздухе этой сцены так же, как в предвосхищениях публики. Он стремился преодолеть воловий ритм, играние «характеров», имитацию активного или фиктивного общения чеховских людей, их подчеркнутой разъединенности. Он внутренне преодолел искус того «поэтического Чехова», который был сотворен Немировичем-Данченко в предвоенных «Трех сестрах», спектакле, который был сильнейшим впечатлением его, Ефремова, театральной юности. Не то чтобы он вырубил березовую аллею или отказался от «тоски по лучшей жизни». Он просто расслышал в пьесе Чехова иной диагноз. В спектакле нет учительской интонации, нет очевидной перспективы, никакого огонечка впереди. Вращение дома и сада замкнуто в круг, из которого никому не вырваться. Невозможно изменить «порядок действий», но это не лишает нас ни мужества, ни понимания того, что жизнь есть короткий дар, который вот-вот отберут. Именно так существовала в спектакле Маша (Е.Майорова). Именно так существуют в спектакле Ирина (П.Медведева) и Ольга (О.Барнет). Этой же невоплощенностью пронизывает свою роль В.Гвоздицкий (Тузенбах) — «беспечный и легкий, как лист бумаги... дунешь — улетит» (так прочитала актерский рисунок Тузенбаха Л. Петрушевская 4). Да они все тут из какого-то крайне непрочного материала — будь то бравый полковник
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:



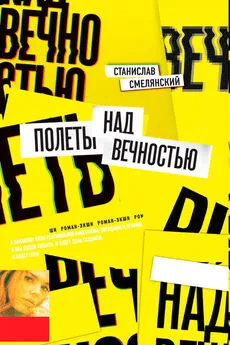

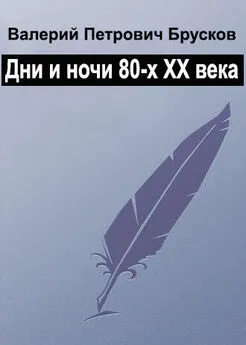
![Анатолий Фоменко - Книга 1. Античность — это Средневековье[Миражи в истории. Троянская война была в XIII веке н.э. Евангельские события XII века н.э. и их отражения в истории XI века]](/books/1124977/anatolij-fomenko-kniga-1-antichnost-eto-srednev.webp)

