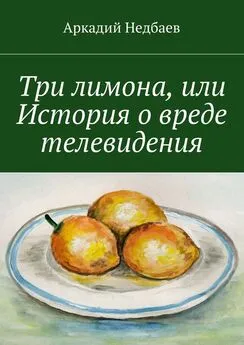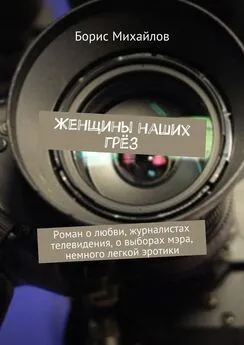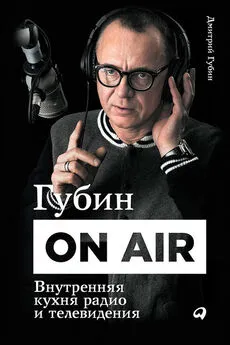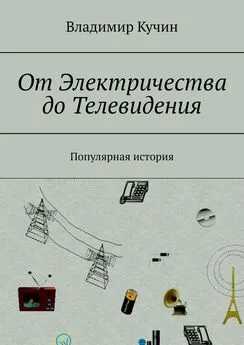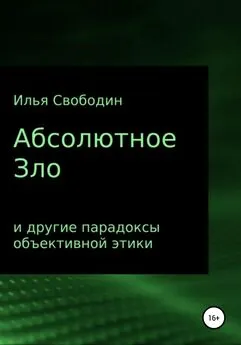Свободин А.П. - Откровения телевидения
- Название:Откровения телевидения
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Свободин А.П. - Откровения телевидения краткое содержание
Откровения телевидения - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
телевидения.
Иначе говоря, возникает дилемма, уходящая своими корнями во времена,
когда не только телевидения, но и кинематографа не было еще и в помине.
Я имею в виду общую эволюцию музыкального концерта.
Современные формы музыкально-концертной жизни сложились в про
шлом столетии. Социальные потрясения конца
XVIII
— начала
XIX
века в Европе перенесли центры музыкальной жизни из усадебных театров и
дворянских гостиных в городские концертные залы. Общественные ката
клизмы драматизировали инструментально-симфоническую музыку, изме
нили ее масштаб, расширили круг зрителей. С появлением титанического симфонизма Бетховена, увеличением концертных залов и расширением
круга слушателей музыкант все больше отдалялся от публики. Завершился
этот процесс отдаления тем, что в последней трети прошлого века Вагнер поставил дирижера спиной к слушателям — иначе он уже не мог достойно
управлять все увеличивающимся оркестром.
Но потребность в непосредственном общении с музыкантом оставалась и особенно проявлялась в эпохи общественных спадов. Тогда приобретало
большое значение и домашнее музицирование, явившееся интимным
дополнением к общественной концертной жизни. Вокальная лирика и инструментальные ансамбли Шуберта были предназначены прежде всего
для такого семейного исполнения. Развитие этих двух тенденций и вело в
одном случае — к предельному сближению музыканта со слушателем, в
другом — к выходу музыканта за стены здания, к многотысячным массам
слушателей. В годы после второй мировой войны эта последняя тенденция
нашла свое наиболее полное выражение в музыкально-театральных
фестивалях — грандиозных представлениях на открытом воздухе, в окружении живой природы и архитектурных памятников.
Но с началом нашего века появилась и тенденция сближения двух
контрастных форм конвертирования, стремление соединить обществен
ную значимость и масштаб публичного исполнения с интимно-домашним характером восприятия.
Массовое звучание музыки —
оперной, инструментально-симфонической,
эстрадной — прямо в нашем доме: по радио, на пластинках, на магнитофонной ленте (а теперь транзистор может повсюду сопровождать нас) в
превосходном исполнении и стало свидетельством такого стремления. Конечно, эта тенденция проявлялась все шире по мере появления новых
технических средств. С другой стороны, это стремление и стимулирует создание новых технических средств.
И, наконец, телевидение оказалось способным соединить вещи, облада
ющие, казалось бы, свойством взаимного отталкивания — публичность и
интимность. Такая способность делает телевидение выразителем важного
явления современного музыкального искусства. Но эта способность не
автоматизирована в телевидении. Ее надо уметь выявить и использовать.
Самораскрытие Гилельса и Шостаковича в телевизионной передаче не
есть специфически музыкальное явление. Оно носит тот же исповеднический характер, что и телевизионные выступления некоторых театральных актеров — Романова, Кольцова, Юрского. Оно представляет собой проявление важнейшей особенности телевидения вообще, замеченной и рас
смотренной еще в книге Вл. Саппака «Телевидение и мы».
Самораскрытие это большей частью происходит в процессе исполнения.
УМ. Романова,
Ю. Кольцова, С
.
Юрского —
театрально-сценического, у
Гилельса —
музыкального. Ведь
инструментальный концерт —
тоже дра
ма. Он родился как соревнование солиста с оркестром.
Хорошо продуманная монтажная структура передачи выступления Гилельса и дала возможность выявить драматическую первооснову форте
пианного концерта. А специальная камера для показа крупного плана
пианиста позволила представить эту драматургию в живом человеческом
воплощении — во взаимоотношении Гилельса с оркестром — и в момент
сольной игры, и в момент «вслушивания» его в звуки оркестра, и в тот момент, когда дирижер с оркестром бросает ему свой вызов.
Но зададим вопрос: является ли самораскрытие музыканта единственно
возможным специфически телевизионным видом музыкальной передачи
или есть и другие
?
Если обратиться к практике, нашей и зарубежной, то окажется, что главное место в музыкальных программах занимают передачи, в которых
режиссеры заняты не столько личностью исполнителей, сколько поисками
изобразительного построения, способствующего наиболее успешному
«прохождению» через телевизионный экран самой музыки.
В тех случаях, когда такие передачи оказываются успешными, первоосновой их удачи неизменно становится изобразительное построение, опирающееся на само течение музыки, смену ее ритмов, драматическую
борьбу, происходящую в ней. Успех таких передач вызван, думается, эсте
тическим законом.
В самом деле, музыка и телевидение — искусства временные. Они состоят из определенных элементов, располагающихся во времени и осо
бым образом организованных. Этим организующим началом для телевиде
ния является логика, смысл монтажной структуры. Для музыки —
течение
мелодии и ритм. Даже в самых примитивных передачах можно видеть, как режиссер старается показать в кадре тот инструмент или ту группу инструментов, которые в этот момент ведут музыкальную тему. Но у слабого режиссера монтаж вял и робок, смена кадров происходит не в тот момент,
когда вступает солирующий инструмент или группа инструментов, а
раньше или позже. Но так как зрительное начало имеет тут решающий
голос, то монтажно-изобразительное построение передачи у слабого
режиссера не выявляет структурно-ритмической особенности передава
емого сочинения, а низводится до простой иллюстрации, — зрителю пока
зывают играющий в данный момент инструмент или группу инструментов.
И все
!
И «картинка» заслоняет собой музыку.
Наоборот, сильный режиссер стремится к такому монтажу, который бы
очень точно выявлял основные структурно-ритмические особенности
сочинения, и тем извлекает из телевизионного изображения огромный музыкально-драматургический потенциал.
В этом отношении весьма красноречивой была передача «Реквиема»
Верди из Лейпцига. В конце вступительной части, когда голоса солистов умиротворенно стихали, камера спокойно и неторопливо — в ритме музы
ки — панорамировала вдоль стоявших певцов. Но с началом «
Dies
irae
», в тот самый момент, когда вдруг раздаются мощные аккорды оркестра и хор
взрывается гневными и трагическими возгласами, произошла резкая
смена кадров: в стремительном монтаже на экране появился дирижер,
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: