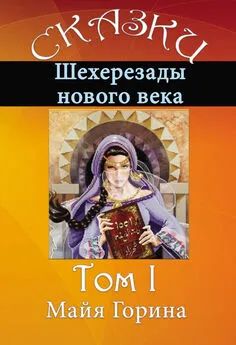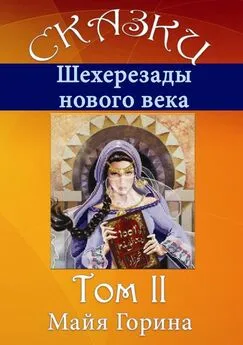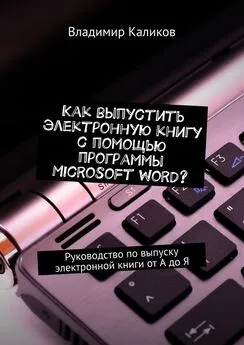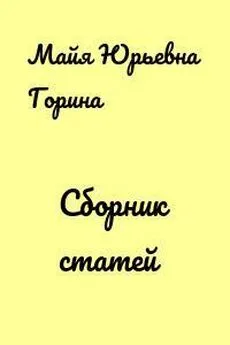maya - Microsoft Word - Часть 3 МАЙИ ГОРИНОЙ.doc
- Название:Microsoft Word - Часть 3 МАЙИ ГОРИНОЙ.doc
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
maya - Microsoft Word - Часть 3 МАЙИ ГОРИНОЙ.doc краткое содержание
Microsoft Word - Часть 3 МАЙИ ГОРИНОЙ.doc - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Всенародное горе, охватившее Россию при известии о гибели поэта, показало, что миссия
всенародного значения впервые в истории возложена не на родомысла, героя или подвижника, а на
художественного гения, и что народ, если этого и не осознавал, то зато чувствовал совершенно
отчетливо. Убийство гения было осознано всеми как величайшее из злодейств, и преступник был
выброшен, как шлак, за пределы России.. Но для метаисторического созерцания слишком ясно, каким
мимолетным было пошлое торжество Дантеса и каким жутким -- его посмертие. Да. Но если смерть
Пушкина была великим несчастьем для России, то смерть Лермонтова была уже настоящей
катастрофой, и от этого удара не могло не дрогнуть творческое лоно не только Российской, но и
других метакультур. Миссия Пушкина, хотя и с трудом, и только частично, но все же укладывается в
67
человеческие понятия; по существу, она ясна. Миссия Лермонтова -- одна из глубочайших загадок
нашей культуры.
Миссии и судьбы. Лермонтов
С самых ранних лет -- неотступное чувство собственного избранничества, какого-то
исключительного долга, довлеющего над судьбой и душой; феноменально раннее развитие
бушующего, раскаленного воображения и мощного, холодного ума; наднациональность психического
строя при исконно русской стихийности чувств; пронизывающий насквозь человеческую душу
суровый и зоркий взор; глубокая религиозность натуры, переключающая даже сомнение из плана
философских суждений в план богоборческого бунта, -- наследие древних воплощений этой монады в
человечестве
титанов;
высшая
степень
художественной
одаренности
при
строжайшей
взыскательности к себе, понуждающей отбирать для публикации только шедевры из шедевров... Все
это, сочетаясь в Лермонтове, укрепляет нашу уверенность в том, что гроза вблизи Пятигорска,
заглушившая выстрел Мартынова, бушевала в этот час не в одном только Энрофе. Это, настигнутая
общим Врагом, оборвалась недовершенной миссия того, кто должен был создать со временем нечто,
превосходящее размерами и значением догадки нашего ума, -- нечто и в самом деле титаническое.
Если и не приоткрыть завесу над тайной миссии, не свершенной Лермонтовым, то хотя бы
угадать ее направление может помочь метаисторическое созерцание и размышление о полярности его
души. Такое созерцание приведет к следующему выводу: в личности и творчестве Лермонтова
различаются без особого усилия две противоположные тенденции. Первая: -- линия богоборческая,
обозначающаяся уже в детских его стихах и поверхностным наблюдателям кажущаяся
видоизменением модного байронизма. Если байронизм есть противопоставление свободной, гордой
личности окованному цепями условностей и посредственности человеческому обществу, то, конечно,
здесь налицо и байронизм. Но это -- поверхность; глубинные же, подпочвенные слои этих проявлений
в творческих путях обоих поэтов весьма различны. Бунт Байрона есть, прежде всего, бунт именно
против общества. Образы Люцифера, Каина, Манфреда суть только литературные приемы,
художественные маски. Носитель гениального поэтического дарования, Байрон как человек обладал
скромным масштабом; никакого воплощения в человечестве титанов у него в прошлом не было.
У Лермонтова же -- его бунт против общества является не первичным, а производным -- этот
бунт вовсе не так последователен, упорен и глубок, как у Байрона, он не уводит поэта ни в
добровольное изгнание, ни к очагам освободительных движений. Но зато лермонтовский Демон — не
литературный прием, не средство эпатировать аристократию или буржуазию, а попытка
художественно выразить некий глубочайший, с незапамятного времени несомый опыт души,
приобретенный ею в предсуществовании от встреч со столь грозной и могущественной иерархией, что
след этих встреч проступал из слоев глубинной памяти поэта на поверхность сознания всю его жизнь.
В противоположность Байрону Лермонтов -- мистик по существу. Не мистик-декадент поздней,
истощающейся культуры, мистицизм которого предопределен эпохой, модой, социально-
политическим бытием, а мистик, если можно так выразиться, милостью Божьей.
Лермонтов до конца своей жизни испытывал неудовлетворенность своей поэмой о Демоне..
Очевидно, если бы не смерть, он еще много раз возвращался бы к этим текстам и в итоге создал бы
произведение, в котором от известной нам поэмы осталось бы, может быть, несколько десятков строф.
Но дело в том, что Лермонтов был не только великий мистик; это был живущий всею полнотой жизни
человек и огромный -- один из величайших у нас в XIX веке -- ум. Богоборческая тенденция
проявлялась у него поэтому не только в слое мистического опыта глубинной памяти, но и в слое
сугубо интеллектуальном, и в слое повседневных действенных проявлений, в жизни. Так следует
понимать многие факты его внешней биографии -- его кутежи и бретёрство и даже, может быть, его
воинское удальство. (К двадцати пяти годам все эти метания Лермонтова кончились, утратили для
него всякий интерес и были изжиты). В интеллектуальном же плане эта бунтарская тенденция
приобрела вид холодного и горького скепсиса, вид скорбных, пессимистических раздумий чтеца
человеческих душ. Такою эта тенденция сказалась в «Герое нашего времени», в «Сашке», в «Сказке
для детей» и т. д.
Но наряду с этой тенденцией в глубине его стихов, с первых лет и до последних, тихо струится,
журча и поднимаясь порой до неповторимо дивных звучаний, вторая струя -- светлая, задушевная,
68


теплая вера. Нужно быть начисто лишенным религиозного слуха, чтобы не почувствовать всю
подлинность и глубину его переживаний, породивших лирический акафист «Я, Матерь Божия, ныне с
молитвою...», чтобы не уловить того музыкально-поэтического факта, что наиболее совершенные по
своей небывалой поэтической музыкальности строфы Лермонтова говорят именно о второй
реальности, просвечивающей сквозь зримую всеми -- «Ветка Палестины», «Русалка», изумительные
строфы о Востоке в «Споре», «Когда волнуется желтеющая нива...», «На воздушном океане...», «В
полдневный жар в долине Дагестана...», «Три пальмы», картины природы в «Мцыри», в «Демоне» и
многое другое.
Но дело в том, что Лермонтов был не «художественный гений вообще» и не только вестник, --
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: