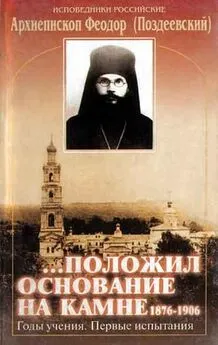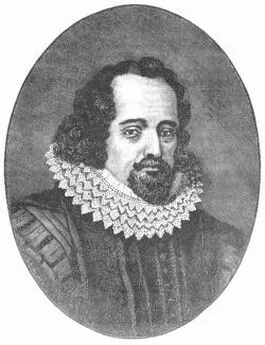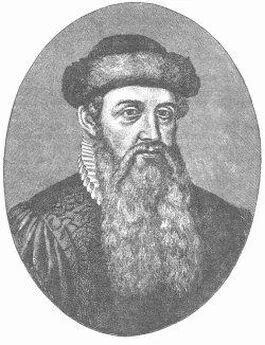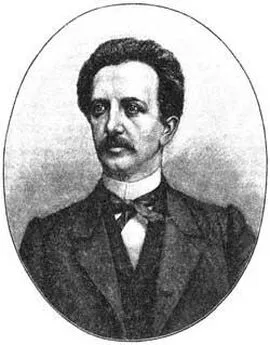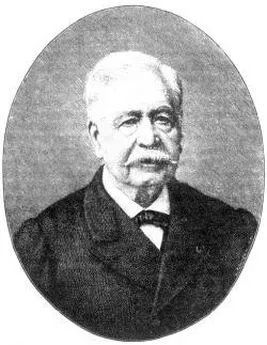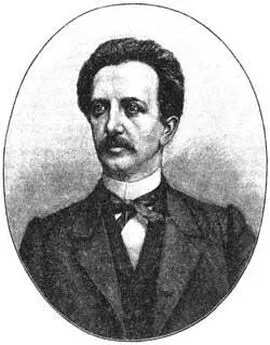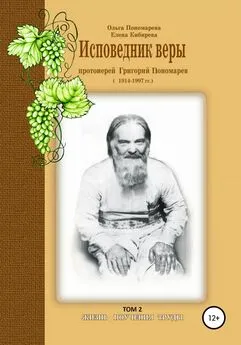Феодор (Поздеевский) - Жизнь. Деятельность. Труды
- Название:Жизнь. Деятельность. Труды
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Феодор (Поздеевский) - Жизнь. Деятельность. Труды краткое содержание
Жизнь. Деятельность. Труды - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Постепенно архим.Феодор становится всё более заметным пастырем в Тамбове, неравнодушным к его общественной жизни.
Каким он был в то время? Немногие черты внутреннего облика о.Ректора, запечатленные в официальных отчётах, в сохранённых временем отзывах сослуживцев и учеников рисуют образ человека сосредоточенного («Ваша всегдашняя сосредоточенность, как бы некоторой дымкой таинственности покрывавшая богатства и глубины Вашей души, манила к себе»<88>), строгого, решительного, убеждённого. Он был аскетом и подвижником, но при этом не чуждался кипящей рядом жизни. Очищая в монашеском подвиге сердце и ум, он обретал зоркость внутреннего зрения и отчётливо видел недуги времени; укреплённый подвигом, выходил на поле брани со злом, привлекая на «церковное дело» бывших рядом честных людей.
Знавшие о.Феодора отмечали его последовательность и цельность. «О.Ректор обладал такими ясно сознанными стремлениями и знаниями...», — говорили его собратия по Тамбовской семинарии[89]. Во взглядах на свою жизнь он определился с самого начала, выбрав путь бескомпромиссного служения Истине. «Нет худшего во всяком деле, как двойственность и хромание на оба колена», — не раз говорил архимандрит Феодор[90].
Его собственная увлечённость, его воодушевление идеей делания добра были даром Божиим, постоянно им возгреваемым, и питающимся, как отзывались сослуживцы, «до крайности живым созерцанием идейночистого образа Пастыреначальника Христа»[91]. Этим всегдашним памятованием о Спасителе был жив и старец его Гавриил, так писавший о своём духовном опыте: «Каждый шаг земной жизни Спасителя ясно отпечатлевался в сознании, как совершённый для спасения, для освящения человека, Им было освящено для меня всё»[92]. Отец Феодор был верным учеником преподобного старца.
Незаметно прошел год жизни в Тамбове, и 27 мая 1905 года в Тамбовской Духовной Семинарии состоялись выпускные экзамены. 29 мая, в воскресение была совершена последняя прощальная Литургия и благодарственный молебен, которые служил архим.Феодор. Перед многолетием к амвону, где стояли священнослужители, приблизился один из выпускников, А.Алешковский. Держа в руках большой крест с подставкой, он обратился к о.Ректору с краткой речью, в которой от лица бывших учеников выразил «желание оставить на молитвенную память по себе в семинарском храме святой Крест». Отец Феодор принял крест, поблагодарил своих питомцев и выразил уверенность, что «подносившие и в жизни будут работать под знаменем и сенью святого Креста»[93]. Предвидел ли он, что уже близки для России дни, когда всем делателям Христовым предстоит встать под «сень святого Креста»?..
Демонстрация студентов на Университетской набережной в Петербурге. 1905 г.
17 октября 1905 года вышел Царский Манифест «О свободе совести», дававший новые гражданские права и религиозные свободы населению Российской Империи. Но неправильно понятые «свободы» привели к стихийным восстаниям и беспорядкам.
Не обошли революционные настроения и духовные школы. Новые «освободительные» ветры растлевали молодые души, и то, что было немыслимым ещё недавно, теперь сделалось не только возможным, но совершенно естественным и получало оправдание в пришлых и домашних новомодных учениях. Всё чаше жизнь студентов «стала нарушаться беспорядками и волнениями на почве требований пересмотра устава и открытия свободного выхода в светские учебные заведения»[94].
В Тамбовской семинарии учащиеся поделились на две партии — либералов и консерваторов. Появились листовки и воззвания о бойкоте предстоящих экзаменов. Мысль, что наконец получена «возможность действовать независимо от начальства и даже против него»[95], горячила головы юных забастовщиков. В октябре воспитанники первых четырёх классов объявили о своём нежелании продолжать учёбу и начали забастовку. На предложение начальства заниматься в ожидании реформ отвечали: «не желаем»[96]. Занятия были приостановлены, и многие родители вынуждены забрать детей домой. По донесении Синоду о ситуации, было получено распоряжение «заниматься с 5 и 6 классами — остальных распустить». Однако уволенные семинаристы стали оказывать давление и на старшеклассников, требуя прекращения занятий. Затем последовало ночное битье стёкол в квартирах преподавателей, известных «твёрдостью и искренностью политических убеждений»[97]; наконец, в среде учащихся стали распространять прокламацию в очень «оскорбительных выражениях», с призывом к новой забастовке[98].
На первых порах требования семинаристов касались в целом, реформы школы: уничтожение балльной системы и введение лекционного способа преподавания в старших классах; свободный доступ выпускникам четвёртого класса во все высшие учебные заведения, шестого — в духовную академию без экзаменов; уничтожение сословных различий при поступлении в духовную школу; отмена платы за обучение. Были и более частные требования: допущение в студенческую библиотеку всех дозволенных общей цензурой книг; свобода собраний в стенах семинарии; право посещения общественных сходок и свобода отлучек из квартир[99]. Главное направление борьбы семинаристов заключалось в желании отодвинуть образование подальше от церковности и приблизить к миру — иными словами, искоренить из семинарии то, что более всего воспитывает будущих пастырей.
Волна стачек и бойкота среди учащихся духовных учебных заведений прокатилась по всей России. Стремясь нормализовать положение, Святейший Синод нашёл нужным со своей стороны предпринять конкретные шаги к подготовке реформы школ и сделал некоторые послабления в порядках семинарской жизни. Была также объявлена амнистия всем уволенным за беспорядки семинаристам. Но сколько-нибудь изменить положение не удалось, и собравшиеся после рождественских каникул учащиеся «обнаруживали такое революционное настроение, что сладить с ними было невозможно. Семинаристы распевали революционные песни и шли в церковь с пением “Марсельезы”»[100].
В это беспокойное время от о.Ректора требовалась рассудительность и твёрдость, последовательность и решительность. 27 января 1906 г. на Пастырском собрании Тамбовской епархии был поднят вопрос о положении дел в Тамбовской семинарии. Священство ходатайствовало перед Преосвященнейшим Иннокентием «о распространении объявленной Св.Синодом амнистии воспитанникам семинарии, уволенным за октябрьские беспорядки, также и участникам мартовских волнений того же 1905 года». Отцы просили за своих детей, думая, что это их успокоит. Выступивший на собрании архим.Феодор обрисовал обстановку в семинарии и настроения семинаристов: «Мне передавали, будто воспитанники говорят: забастуем и в том случае, если найдём поддержку в собрании пастырей, и в том, если наши требования не найдут сочувствия»[101]. Он знал, что уступки и смягчения по отношению к забастовщикам особого действия не возымеют. Вместе с тем, как руководитель, как отец, он предлагал не лишать студентов доверия, не унижать их как личности. Так, когда зашла речь об избрании делегации от учащихся на заседание собрания, архим.Феодор высказался за то, чтобы это избрание они совершили свободно, без присутствия Ректора и инспектора[102].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: