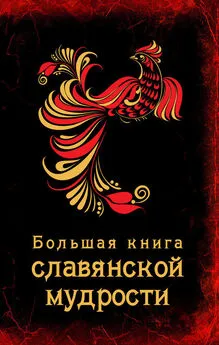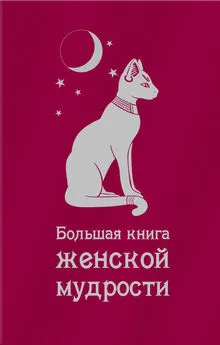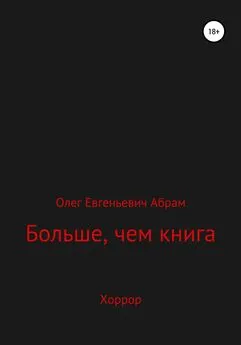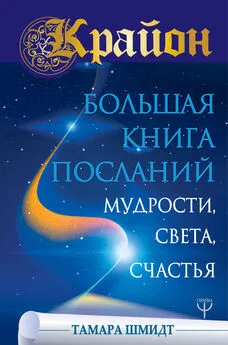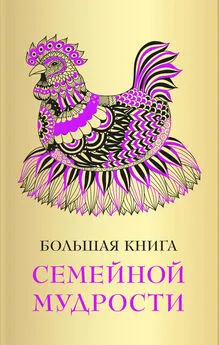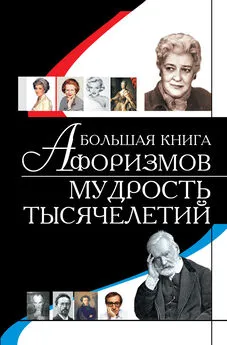Олег Евтихов - Большая книга восточной мудрости
- Название:Большая книга восточной мудрости
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «5 редакция»
- Год:2014
- Город:М.
- ISBN:978-5-699-46433-3, 978-5-699-48746-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Олег Евтихов - Большая книга восточной мудрости краткое содержание
Большая книга восточной мудрости - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Сатори – это не прекращение работы сознания, как некоторые иногда по ошибке полагают. Эта ошибка объясняется тем, что самадхи, которая считается предварительной стадией сатори, путают с прекращением умственной деятельности, то есть психологическим состоянием абстрактной пустоты, или иначе смертью. Вечность также имеет аспект смерти до тех пор, пока она остается в себе, то есть пока она остается абстракцией, подобно другим обобщенным понятиям. Для того чтобы обрести жизнь, вечность должна «снизойти до времени». Вечность пассивна без времени точно так же, как время само по себе не существует. Понятие времени действительно только в рамках нашего относительного существования. Каждый момент жизни отмечает ступень вечности. Поэтому, чтобы постичь вечность, сознание должно пробудиться в тот самый момент, когда оно ставит ногу на ступень времени. Этот момент представляет собой то, что называют «абсолютным настоящим» или «вечным теперь». Это абсолютная точка времени, где нет ни прошлого позади, ни будущего впереди. Сатори находится в этой точке [19].
Для обычного человека реальность – это «сегодня», и она может быть постигнута в непосредственном переживании – знании. В буддизме принято различать две формы знания: первая – праджня, а вторая – виджняна. Праджня есть всезнание (сарваджня), или трансцендентальное знание, то есть недифференцированное знание. Виджняна – это наше относительное знание, в котором различаются субъект и объект. В него включается как знание конкретных вещей, так и знание абстрактное и универсальное. Праджня лежит в основе всякой виджняны, но виджняна не осознает праджни и всегда довольствуется только собой, считая, что этого достаточно, что нет никакой нужды! в праджне. Но духовное удовлетворение мы черпаем не из виджняны – относительного знания. Сколько бы мы ни накопили виджняны, мы в ней никогда не найдем мирного убежища, так как мы чувствуем в глубине души, что нам все равно чего-то не хватает, чего наука и философия не могут дать.
Япония – во многих отношениях страна уникальная и удивительная. Врожденная вежливость, более искренняя и менее церемонная, нежели в Китае, – и рядом с ней острый меч самурая, смелость, отвага и готовность к самопожертвованию которого могут быть поставлены рядом лишь со слепым фанатизмом воинов ислама. Редкое трудолюбие в сочетании с обостренным чувством чести и глубокой, до смерти, преданности повелителю (императору, Учителю). Умение отрешиться от суеты повседневности и найти душевный покой в созерцании спокойной и величественной природы, в миниатюре представленной в маленьком, глухо огороженном дворике с камнями, мхом, ручейком и карликовыми соснами, является национальной особенностью японской культуры, существенное влияние на формирование которой оказали буддийские нормы.
Дзен-буддизм с его принципами и нормами во многом ассимилировался в воинском искусстве и определил кодекс самурайской чести, «путь воина» (бусидо). Один из патриархов дзен даже утверждал, что самурай может достичь просветления быстрее монаха, а воинское искусство самураев – более прямой и быстрый путь к совершенству, чем традиционная практика медитации.
Мужество и верность, обостренное чувство достоинства и чести, культ самоубийства во имя чести и долга (не только мальчики в школах, но и девочки из самурайских семей специально обучались этому искусству: мальчики – делать харакири, девочки – закалываться кинжалом), философия фатализма в сочетании с фанатичной преданностью патрону, а также уверенность в том, что славное имя доблестно павшего будет светиться и почитаться поколениями в веках, – все это, вместе взятое, вошедшее в понятие «бусидо» и оказавшее огромное влияние на японский национальный характер, во многом было воспитано именно японским дзен-буддизмом.
Фанатизм и готовность к самопожертвованию, воспитывавшиеся в самураях дзен-буддизмом, отличались от фанатизма воинов ислама, которые шли на смерть в большей степени во имя веры, ожидая вознаграждения на том свете. Не о загробном блаженстве и посмертной жизни, а о достойной смерти и высоком месте в памяти живых мечтали шедшие на смерть самураи. Это отношение к смерти как к естественному концу, как к закономерной судьбе каждого, к нормальной смене одного состояния другим в немалой степени было стимулировано буддизмом, в том числе дзен-буддизмом.
Эстетика дзен в Японии заметна во всем. Она и в принципах самурайских состязаний по фехтованию, и в технике дзюдо, и в изысканной чайной церемонии (тяною). Эта церемония представляет собой как бы высший символ эстетического воспитания, особенно для девушек из зажиточных домов. Умение в уединенном садике в специально для этого сооруженной миниатюрной беседке принять гостей, удобно усадить их (по-японски – на циновке с поджатыми под себя разутыми ногами), по всем правилам искусства приготовить ароматный зеленый или цветочный чай, взбить его специальным веничком, разлить по крохотным чашечкам, с изящным поклоном подать – все это является итогом чуть ли не университетского по своей емкости и длительности обучения (с раннего детства) курса японской дзенской вежливости.
Вообще вежливость – одна из характерных черт японцев. Едва ли ее можно отнести только на счет дзенской самокультивации, хотя сдержанность и достоинство, изящество вежливости японцев наталкивают на мысль о том, что и здесь дзенская эстетика оказала свое воздействие. Удивительно, но даже в рамках бусидо беспощадный меч всегда уживался рядом с красотой, изысканностью и любовью. Любовь – хотя и не рыцарская, наподобие средневековой европейской, но в чем-то все-таки близкая ей, играла в жизни японского народа немалую роль. Это не конфуцианско-китайская любовь к старшему, к мудрецу, к родителям. Это и не близкая к чувственному наслаждению и сексуальной технике любовь-кама индийцев. Это любовь возвышенная, готовая к самопожертвованию, порой сводящая к себе чуть ли не весь смысл жизни. Японская история изобилует примерами двойного самоубийства любящих, не имевших возможности соединиться. И хотя эти трагедии не породили в японской литературе произведений, равных по силе и социальной значимости шекспировской повести о Ромео и Джульетте, авторитетные специалисты, в том числе и японцы (как, например, X. Накамура), полагают, что любовь в японской жизни и в японской поэзии обладает редкой для Востока силой и значимостью, равноправием чувства и позиций обеих сторон и что в этом, возможно, одна из причин, облегчивших японцам восприятие многих сторон западной культуры [20].
В XX веке религиозно-философское учение дзен получило известность в странах Запада, в частности благодаря популяризаторской деятельности Д.Т. Судзуки (1870–1966), принадлежащего к школе Риндзай.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
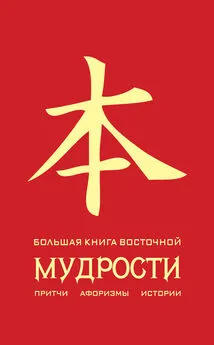
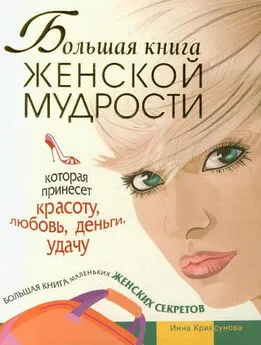
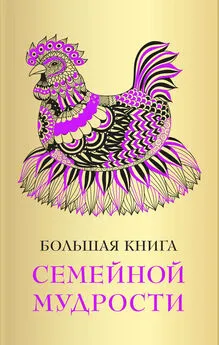
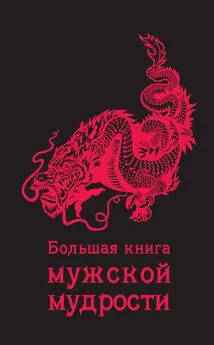
![Олег Кожин - Большая книга ужасов 75 [сборник]](/books/1084896/oleg-kozhin-bolshaya-kniga-uzhasov-75-sbornik.webp)