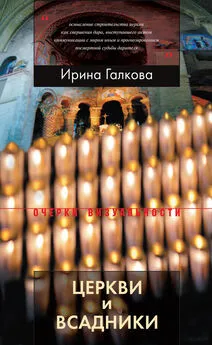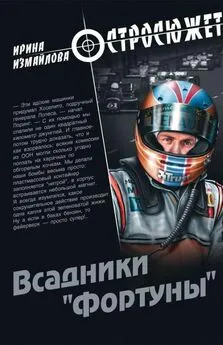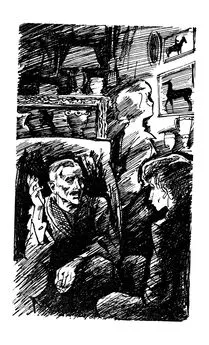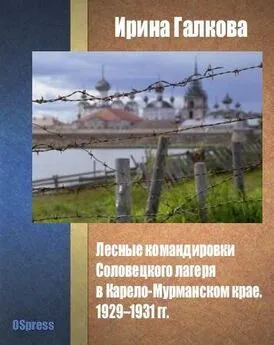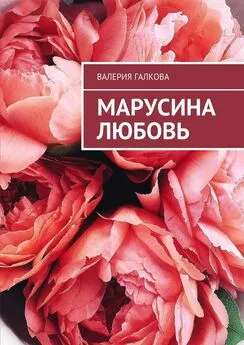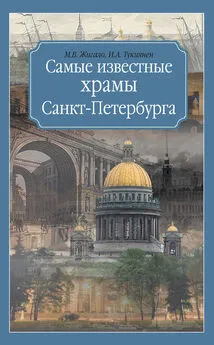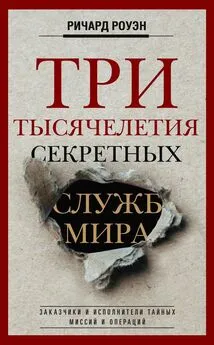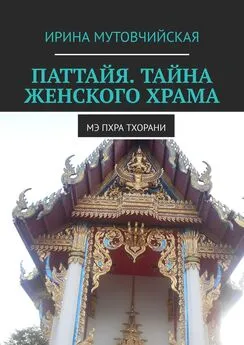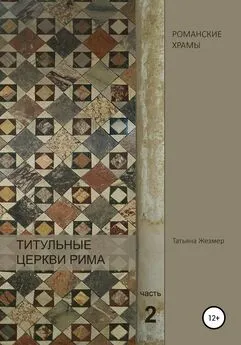Ирина Галкова - Церкви и всадники. Романские храмы Пуату и их заказчики
- Название:Церкви и всадники. Романские храмы Пуату и их заказчики
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «НЛО»f0e10de7-81db-11e4-b821-0025905a0812
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0398-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ирина Галкова - Церкви и всадники. Романские храмы Пуату и их заказчики краткое содержание
И.Г. Галкова – искусствовед, медиевист, кандидат исторических наук (Институт всеобщей истории РАН). Ее книга представляет собой попытку реконструировать ситуацию создания двух романских церквей в регионе Пуату – Сен-Пьер в Ольнэ и Сент-Илер в Меле. Два конкретных случая рассмотрены на фоне общего анализа интенций и действий заказчиков церквей XII века, запечатленных в текстах дарственных грамот, хроник, писем, надписей и впервые систематически изученных в таком ключе. В целом исследование выявляет процесс становления в европейской культуре феномена родовой церкви, которая в эпоху позднего Средневековья и раннего Нового времени станет практически непременным атрибутом репрезентации рода для высших кругов аристократии.
Церкви и всадники. Романские храмы Пуату и их заказчики - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
9. Аристократия Пуату и родовая память
XII в. – время становления аристократического сословия в Европе. Именно в это время социальная группа «воюющих» [604], соратников и приближенных правящих персон начинает утверждаться не только в пространстве собственно социальной коммуникации, но и в культуре. Рыцарский этос и образ жизни, рыцарская поэзия, само изображение конного всадника и куртуазного придворного воплощали и закрепляли формировавшиеся идейные и нравственные установки этой социальной группы, присущие ей формы поведения и саморепрезентации, которые должны были маркировать принадлежащих к ней набором признаков, говорящих об их избранности, элитарности, причастности к власти [605].
Одной из важнейших составляющих аристократического сознания было сохранение памяти о представителях рода на несколько поколений вглубь – чем глубже уходила такая память, тем аристократичнее считался род. Кроме того, эту память необходимо было вынести за пределы собственно рода: причастными к ее сохранению и поддержанию становились многие, а в рамках элитарной социальной группы она, будучи вынесенной вовне, становилась свидетельством принадлежности к избранным [606]. В Средние века инструментом объективации знания о роде знатных сословий стала традиция сохранения памяти о мертвых (memoria). Она сформировалась задолго до XII в. в христианской культуре, во-первых, в форме поминальных обрядов и литургии, во-вторых, в форме погребальных монументов и вообще мемориального искусства. Наиболее эффективным способом воплощения родовой memoria для европейских аристократов стала практика учреждения на собственные средства церквей и монастырей (хотя речь могла идти также о школах, больницах, приютах и т. д.). Церкви, отданные на попечение монахам и каноникам, становились местом погребения своих покровителей; в них формировалась традиция регулярного поминовения членов рода, особенно похороненных в храме; поминальные обряды и прочие обычаи, связанные с памятью об умерших и сохраняющейся связью с живыми представителями рода, становились частью упорядоченной жизни того микромира, которым являлся монастырь или приорат. Надгробные памятники и прочие скульптурные и живописные произведения также служили сохранению памяти о роде и ее объективации, будучи выставленными на публичный обзор и нередко включенными в литургический ритуал. Само здание становилось средством самопрезентации рода, и заказчики уделяли повышенное внимание ее внешнему виду. Более того, когда род не был знатным, но претендовал на повышение своего социального статуса, для достижения этой цели мог использоваться именно такой ход: основание церкви, призванной запечатлеть и сохранить в виде живой традиции и памятников искусства память о семье.
Мель и Ольнэ как церкви-некрополи
Перестройка интересующих нас храмов относится к тому периоду, когда европейская аристократия, и пуатевинская в частности, только начинала себя осмысливать в этом отношении и задаваться задачами публичной легитимации своего статуса. Можно ли предположить, что создание церквей Ольнэ и Меля, а также и подобных им построек в Пуату и соседних регионах было связано именно с феноменом становления местной аристократии, что перестройка этих зданий в XII в. была обусловлена осмыслением храмов как родовых, призванных отныне сохранять и пропагандировать память о знатном семействе? Если ответить на этот вопрос положительно, то многие из отмеченных выше особенностей истории этих церквей и их визуального воплощения найдут свое объяснение.
Прежде всего здесь следует вернуться к вопросу о причинах, которые побуждали мирян – владельцев церкви сначала передать ее монастырю и только потом, уже не имея на нее прав как на собственность, приступить к реконструкции здания. Выше уже говорилось об особом характере средневековой собственности и ее отчуждения в форме дара – когда осмысление подаренного объекта как «своего» не исчезало окончательно при фактической передаче; но это, судя по всему, только часть причины. Дело еще в том, что память о роде обретала свой вес и значимость только тогда, когда она была вынесена за пределы семьи и собственно семейных интересов и представляла ценность в культурном пространстве вообще [607]. Память, воплощением которой делался храм, должна была перейти в чужие руки, которые бы о ней профессионально позаботились. И эту роль взяли на себя служители церкви. Обслуживавшие храм монахи и каноники формировали особую традицию заупокойных молитв, состоявшие при монастырях и соборах мастера запечатлевали память о роде в монументальном произведении. Сами же представители знатных семей, хотя и инициировали этот процесс, не работали в прямом смысле над созданием памяти, но приобщались к ней в особо значимые моменты своей жизни [608].
Именно так обстояло дело в тех случаях, о которых мы знаем несколько больше, а именно в сформировавшихся в конце XI и в XII в. как родовые некрополи графов Пуату и герцогов Аквитанских церквах монастырей Монтьернеф и Фонтевро. Монтьернеф стал усыпальницей рода Рамнульфидов, приняв прах своего основателя Ги-Жоффруа Гийома и его сына Гийома Трубадура. Фонтевро известен как семейный некрополь Плантагенетов (и, соответственно, имел статус не только графской и герцогской, но и королевской усыпальницы). Там нашли последнее пристанище английский король Генрих Плантагенет, его супруга Алиенор Аквитанская и их дети, среди которых было еще два короля – Ричард Львиное Сердце и Иоанн Безземельный. Примечательно, что со сменой правящей династии сменилась и церковь, с которой была связана родовая память: Монтьернеф, монастырь, основанный прадедом Алиенор Аквитанской, уступил Фонтевро, расположенному поблизости от границы с Анжу – родиной Генриха Плантагенета. Как сам Генрих, так и другие члены его семьи уделяли повышенное внимание этому монастырю, способствуя его значительной перестройке в XII в. и росту его влиятельности [609].
В поминальных книгах Монтьернеф встречается всего несколько светских имен – все это члены графской семьи, начиная от основателя монастыря Ги-Жоффруа Гийома и заканчивая его правнучкой Алиенор Аквитанской, последней представительницей династии Рамнульфидов [610](память об Алиенор, ставшей связующим звеном двух династий, таким образом, сохранялась в обеих церквах). Судя по сообщениям хроники, в литургической традиции монастыря особое внимание уделялось почитанию памяти графа, и по некоторым признакам можно судить о том, что эта традиция в Монтьернеф складывалась впервые. Его могила, расположенная изначально в зале капитула, была спустя год перенесена в неф церкви, а затем оформлена как небольшой мавзолей. В день поминовения графа, по свидетельству монаха-хрониста, его надгробие укрывалось драгоценными тканями, и сам аббат служил над ним праздничную мессу [611]. С. Треффор в статье, посвященной мемориальным аспектам архитектуры и литургии Монтьернеф, замечает, что перенос захоронения из зала капитула в неф, скорее всего, связан именно с формированием в это время литургической традиции почитания основателя [612]. Явление не было единичным для региона: примерно в то же время произошло перенесение праха анжуйского графа Жоффруа Мартелла из зала капитула в неф аббатской церкви Сен-Николя в Анжере. Литургическая традиция, формируемая вокруг перенесенной внутрь церкви гробницы сюзерена, дополнялась обрядом легитимации самого графского (герцогского) титула, связанным с передачей титула наследнику: Гийом Тулузец, внук основателя, вступая в наследные права, прежде всего должен был явиться в Монтьернеф, чтобы почтить могилы деда и недавно умершего отца [613]. Такой визит был не просто естественным проявлением скорби по усопшему родственнику, но и жестом приобщения к родовой традиции (здесь стоит вспомнить, пожалуй, об изначальной истории Монтьернеф, основание которого было частью покаянных обетов графа Ги-Жоффруа ради признания наследных прав сына, рожденного от третьей жены [614]). О подобном визите принца Иоанна перед вступлением его на английский престол рассказывается в житии его духовника, Гуго Линкольнского; при этом перед коронацией будущему королю пришлось совершить путешествие из Англии во Францию, в Фонтевро. В тексте жития, составленного спустя столетие после описанных событий, поведение принца (будущего Иоанна Безземельного) описывается как неправедное: явившись к воротам монастыря в отсутствие настоятельницы и получив отказ монахинь, он пытается прорваться в монастырь силой. Этот поступок в интерпретации автора жития выступает своего рода знамением неправедности его правления. Символично, что такое проявление сущности будущего правителя происходит именно у дверей родовой церкви [615].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: