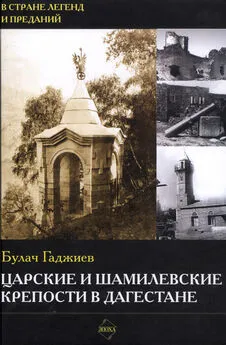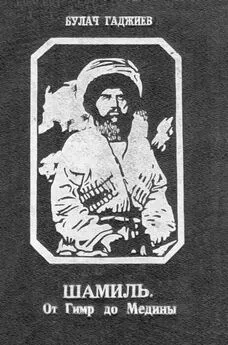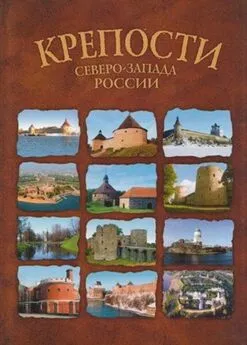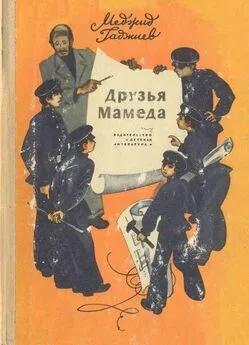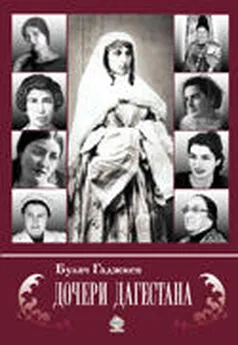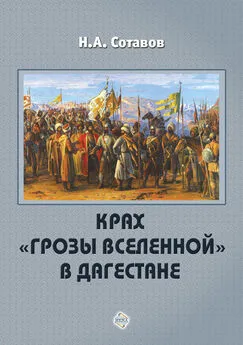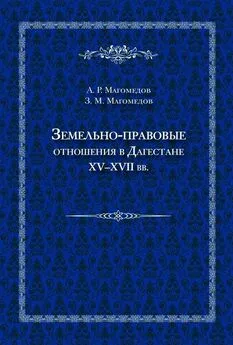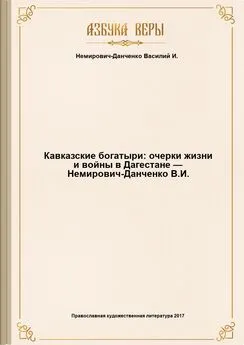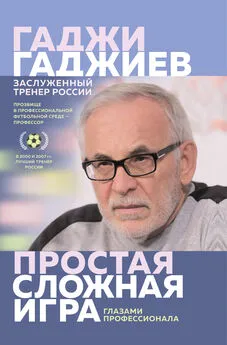Булач Гаджиев - Царские и шамилевские крепости в Дагестане
- Название:Царские и шамилевские крепости в Дагестане
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Эпоха»
- Год:2006
- Город:Махачкала
- ISBN:5-98390-014-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Булач Гаджиев - Царские и шамилевские крепости в Дагестане краткое содержание
В 1816 г. он с войсками прибыл в непокорные земли. Первые же… столкновения с восставшими показали, что штурмом Кавказом овладеть невозможно. Поэтому в стратегических точках Дагестана возникают крепости, укрепления, блокпосты и т. д.
Шамиль, ведший в основном партизанскую войну, понимал, что строить крепости против царских пушек и регулярных частей неразумно. И все-таки три-четыре естественно-искусственные крепости он создал, такие, как Уллу-Кала, Ахульго, Гуниб.
Обо всем этом подробно читайте в предлагаемой книге.
Царские и шамилевские крепости в Дагестане - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Затем Дюма с переводчиком Калино вышли на главную улицу города. Но их тут же остановил хозяин харчевни. Он сказал, что небезопасно приезжим ходить без оружия. Пришлось Дюма надеть кинжал, который ему подарили в Астрахани.
Дюма услышал страшные истории, которые время от времени происходили в Кизляре и вокруг него. Вот некоторые из них.
Полковник Меден был убит между Хасавюртом и Кизляром. Трое братьев-армян попали в плен к горцам и за них требовали солидный выкуп. Так же оказались в плену три женщины, но во время переправы вплавь через Терек они смертельно простудились, и за них ничего не удалось получить…
В общем, Дюма услышал до 20 таких историй, которые он добросовестно записал в дорожный блокнот.
На третий день французы, попрощавшись с Кизляром, на пароме переправились через Терек. В дневнике Дюма отметил, что Терек вдвое шире, чем Сена. На расстоянии 5 верст друг от друга располагались казачьи посты со сторожевыми вышками.
130 лет назад
Еще на 7 верст до города начинались сады. «Это не дорога, – пишет один из лиц, посетивших Кизляр в 1861 году, – это узкая ароматная аллея». Но в крепости была совсем иная картина. «Винная душная атмосфера начинает обдавать вас, когда вы подъезжаете», – сообщает тот же автор. В городе проживало около 10 тысяч человек – русских, армян, грузин, кумыков, осетин, персов, ногайцев. Кизляр 130 лет назад состоял собственно из самого города, крепости, солдатской слободы и полевых построений.
Земляные валы крепости растянулись между солдатскою слободою и городской площадью. За стенами крепости находились казармы, цейхгаузы, окружное казначейство, острог, провиантский и соляной магазины. На площади города заезжий мог увидеть соборную церковь. Подле нее глубокий колодец, рядом две ивы.
«Северные и южные ворота крепости забиты наглухо, – говорится в небольшой книжечке под названием «Чтения», – а прочие подъемными мостами на чугунных цепях напоминают времена, когда пароль и лозунг были в Кизляре не простым повторением военного артикула. Чугунные пушки, не стрелявшие со времени нашествия на Кизляр шейха Мансура до набега Кази-Муллы, лежат на стенах, многие – без лафетов; вода кругом крепости подернулась зеленью, заросло камышом, в котором раздается по ночам пронзительный крик кулика и дикой утки, иногда часовые заведут свое протяжное «Слушай!»» [20] Чтения в императорском обществе истории древностей российских при Московском университете. М., 1861.
.
В 1861 году церквей в городе имелось 9, из них армянских – 4, мечетей – 5. Автор книги замечает, что женщин, особенно молодых, в церквах бывает мало. Ревностью мужей и невежеством духовенства объясняет он этот факт. При мечетях имеются школы. В них дети магометан с утра до вечера читают нараспев «Коран».
Настоящих улиц в Кизляре была одна. Она шла через площадь, окружающую крепость до площади с армянской церковью, затем до татарского базара. Грязь по колено в дождь и пыль до неба в сушь.
В «Записках о Кизляре» Ю. Шидловский сообщал: «Чистота на всех улицах азиатская. Летом от сора нет проходу, а весною и осенью ни прохода, ни проезда от грязи. Случается, что арбы, встретившись на улице, не могут в глубокой грязи разъехаться, и надолго застревают пока не придут на помощь… Открытые болота, образованные разливами Терека, также имеют дурное влияние на климат Кизляра».
В 1863 году вода из Терека ушла в Таловку. Это было причиной гибели многих садов.
Лавок и духанов великое множество. В них можно было приобрести чихир, красное вино, серные спички, сукна, овощи. Базаров имелось 2: татарский и армянский. Осенью в город прибывали горцы из близких и далеких аулов. Их дело – резка винограда. «Эти полулюди, – сообщает автор, – известны в Кизляре под общим именем горцев или тавлинцев».
Если бы имели возможность обозреть Кизляр с возвышенного места, мы обратили бы внимание на то, что город с 2-х сторон был окаймлен садами, третьей – тополиной рощей и с четвертой – Тереком. От Астрахани до Кизляра было голо, нигде нет леса, если не считать тополей, растущих на расстоянии более 10 верст по берегу реки. По уверению автора: «Многие ногайцы, кочуя всю жизнь в песчаных степях, не видели леса». На тополя ногайцы смотрели, как на какое-то чудо.
Дважды в году отдыхали кизлярцы – встречая весну и провожая лето. Собирались в тополиной роще. Кумыки, русские, грузины, армяне, татары, евреи с детьми и женами приходили сюда. Всюду слышалась музыка, хлопанье в ладоши, песни. То там, то в другом месте начинались танцы, борьба, джигитовка, бегание взапуски.
В окрестностях Кизляра в обилие имелись дикие свиньи, волки, лисы, зайцы. К северу от города – сайгаки, олени. Да и сейчас в 12 км. от города в Бороздинке живут олени. Фазаны, дикие утки разных пород, лебеди, пеликаны заполняли дельту Терека. В самом Тереке – рыбное царство: осетр, белуга, сазан, лещ, судак, окунь, линь. Уместно будет заметить, что некоторое процветание рыбной промышленности началось с 1865 года. Отмена крепостного права не задела город. Сюда ежегодно прибывали тысячи сезонников: разутые, раздетые, жить приходилось под открытым небом, в лучшем случае в сараях.
Краевед Д. Васильев сообщает, что работа на виноградниках называлась «виноградной каторгой» – за гроши приходилось трудиться от зари до зари.
Особых изменений в городе не наступало и через 50 лет. В конце XIX века в Кизляре, как и раньше, бичом являлась малярия. Если в 1864 году здесь проживало около 10 тысяч человек, то по переписи 1897 года, жителей осталось 7327. Это объясняется тем, что хотя рождаемость в Кизляре равнялась общероссийской, составляя 4,8 %, смертность была выше на 3 %.
Смертность на 1 тысячу жителей в городе составляла 70 человек, в то время как в России – 34. Врач Р. И. Мишвелев, изучавший санитарное состояние Кизляра, в 1900 году писал: «Недалеко время полного вымирания».
Кизлярцы имели небольшой рост, были худы, движения вялы, бледны, с землистым цветом лица. «Осенью и зимою, – печально констатирует врач, – в каждом доме есть больные». А в сезон напряженности лихорадок /конец лета и осень/ нередко в семье из 3–5 душ некому было и воду подать.
Малярия изводит и кормящих матерей и их младенцев, взрослых и детей, не щадит и домашних животных… масса пришлого рабочего люда, особенно тавлинцев, из Дагестана, болела и в страхе уходила в горы… Шестьдесят лет считают чуть ли не предельным возрастом… Стариков у нас нет, на людей возраста более 70 лет указывается, как на редкость. Признаки физического вырождения становятся все резче, народ изнемогает, мельчает, обессиливается, трудовая способность падает», – писал Р. И. Мишвелев [21] Газета «Кизлярская правда» от 11.1.1967.
.
Интервал:
Закладка: