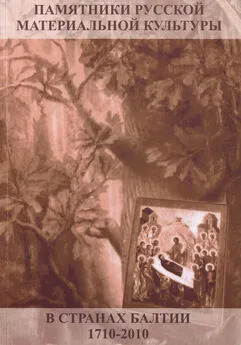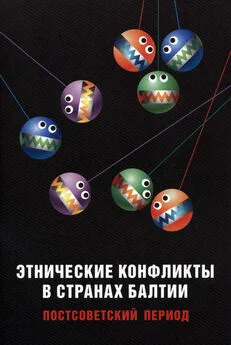А. Гапоненко - Материальные памятники русской культуры в странах Балтии
- Название:Материальные памятники русской культуры в странах Балтии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «PKS»
- Год:2010
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
А. Гапоненко - Материальные памятники русской культуры в странах Балтии краткое содержание
Материальные памятники русской культуры в странах Балтии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Межкультурные влияния западноевропейских стран испытало на себе и течение рижского национального романтизма. Начало ХХ века в России и в ее прибалтийской части – Латвии ознаменовалось общим подъёмом культуры, расцветом так называемого, «серебряного века» в поэзии. Теперь большинство архитекторов стали уделять внимание не декоративному формотворчеству, а поискам рациональной планировки, подбирая к ней средства архитектурной выразительности.
Однако рационалистические изыскания в рижском модерне часто переплетаются с декоративными тенденциями и чёткой грани между старыми и новыми тенденциями в стиле провести трудно. Зачастую здания с внешне старыми элементами спроектированы рациональнее, чем современные на вид сооружения с решением фасадов в стиле модерн. Творчески развивая язык исторических форм, модерн не копирует их, а подвергает свободной стилизации, что придало многим сооружениям модерна своеобразный романтический налёт.
Другой причиной появления нового романтизма в русской и латвийской архитектурах – реакция на материализм и позитивизм в философии, критический реализм в литературе, бескрылую эклектику в архитектуре, желание выразить новую роль личности в историческом процессе. История трактуется как противоборство разумного и стихийного начал (в духе Ф. Ницше), в противовес политическому, классовому началу. Особенно привлекательным для неоромантизма в модерне стало средневековое искусство как источник народного творчества. Это проявилось и в русской и в латвийской архитектуре начала ХХ века: из народного искусства и мира природы модерн заимствует принцип естественности и мир символов, пронизанный иррациональным началом. К примеру, мотив русского терема явно ощутим в здании Ярославского вокзала в Москве (1904, арх. Ф. Шехтель). В рижской архитектуре национального романтизма мы видим элементы народного узора и «живописные пятна» на фасаде дома по ул. Чака, 26 (арх. К. Пекшен, Э. Лаубе, 1905), народный орнамент на здании бывшего Международного кредитного банка по ул. Тербатас, 14 (арх. К. Пекшен и А. Медлингер, 1909) и т. д.
В неоромантическом духе строили дома такие рижские архитекторы как В. Нейман (1900, ул. Бривибас, 55), Я. Алкснис (1909, ул. Бривибас, 76). Рядом с домами латышских зодчих, появляются в неромантичном духе и немецкие – А. Рейнберг (ул. Школьная, 3, 1905), и русские – Н. Проскурин (Дом страхового общества «Россия», по ул. Смилшу, 1/3, 1906), что ещё раз напоминает о широких межкультурных связях рижской и европейской архитектуры.
На рижский модерн оказал большое влияние его немецкий собрат своим рационализмом и вертикализмом, особенно здание универмага «Вертгейм» в Берлине (арх. А. Мессель, 1896). Вертикализм А. Месселя вдохновил рижского архитектора Э. Лаубе на создание доходных домов по ул. Кугю, 11/13(1911), ул. Бривибас, 85, а также внушительное здание бывшего Банка Торгово-ремесленного общества взаимного кредита, отделанного черным шведским лабрадоритом по ул. Бривибас, 33 (оба здания 1912 года). Несомненно, что на проектирование этих и других подобных зданий повлияла архитектура Западной Европы – Германии, Швеции, Австрии – дома в Дюссельдорфе (1908, арх. Я. Ольбрих), в Стокгольме (1905, арх. Э. Штенхаммер), в Вене (1905, арх. Пленчик), поэтому не заметить влияние европейских культур на рижскую.
Таким образом, национально-романтические черты в архитектуре начала ХХ века можно считать общими не только для России и Латвии, но и Австрии (г. Клагенфурт), Германии (Хаген), в Чехии (дом арх. Масака в Праге, 1910), Испании (Касса Калвер, арх. А. Гауди, 1900). Межкультурные связи начала двадцатого века объединяют в Европе не только архитекторов, но и поэтов, живописцев, музыкантов, способствуя синтезу искусств, делая сам стиль модерн поистине международным.
Уже в позднем модерне (1905–1914) видно, как европейская архитектура все более склоняется к рационалистическим принципам, придавая украшению все меньше значения, постепенно освобождаясь от декора и орнамента. Рационализм (от лат. rationalis – разумный, ratio – разум) стремился выработать новые архитектурные формы, отвечающие современным общественным потребностям и уровню промышленно – технического развития.

Рига. Дом страхового общества «Россия».
Основы рационализма закладывались ещё в конце XIX века Л. Г. Салливен (1856–1924) – в США, Х. П. Берлаге (1856–1934) – в Нидерландах (т. н. кирпичный стиль), Адольф Лоос – в Австрии, мастера немецкого Веркбунда – в Германии, О. Перре – во Франции. Становлению рационализма в начале 1920-х годов во многом способствовали теории, пропагандировавшиеся группой, объединившейся вокруг журнала «Эспри нуво» (L'Esprit Nouveau – «Новый дух») во главе с Ле Корбюзье (Le Corbusier) во Франции. Такие же принципы проповедовал Вальтер Гропиус в архитектурной школе «Баухауз» в Германии. Это течение получило в дальнейшем название – функционализм, или конструктивизм, считающий, что форму здания определяет его функция (предназначение), а не внешнее украшение. Появившись на волне научно – технической революции, конструктивизм идеализировал идеи техницизма, поставив конструкцию выше эстетических потребностей человека, отдав предпочтение его утилитарным потребностям.
Несомненно, что латвийские зодчие не могли остаться в стороне от новых течений и принципов научной мысли. Уже с конца 1920-х годов в Риге начинается строительство сначала частных, а потом общественных зданий уже в духе функционализма В. Гропиуса и Ле Корбюзье. Непосредственным толчком для строительства в духе функционализма, послужили примеры голландской, немецкой, французской и финской архитектур.
Односемейный дом по ул. Маза Нометню, 6 в 1927 году строит архитектор Т. Германовский, повторяя внешний облик Виллы Пуаре (1925, арх. Р. Малле-Стевен). В 1934 архитекторы А. Чуйбе и А. Дунга в пригороде Риги в Межапарке строят дома, очень напоминающие дом в г. Утрехте (Голландия, арх. Г. Риетвелд, 1924): 2–3 этажа, прямые стены без орнамента и украшений, закругленные углы или уступы, образующие балконы.
Эта же тенденция наблюдается при строительстве в Риге многоквартирных домов. Примерами могут служить: многоквартирный жилой дом по ул. Аусекля, 3 (1927, арх. П. Дрейманис). Здание по ул. Аусекля, 3 сильно напоминает венское муниципальное сооружение Лоренцхоф (арх. О. Прутшер, 1924), а здание по ул. Ломоносова, 22 перекликается с венским муниципальным комплексом в Карл-Маркс-Хоф (1926–1930, арх. К. Эн).
В домах такого типа большие двух – или одностворчатые окна, создающие хорошую освещенность помещениям. Балконы со второго по пятый этаж расположены обычно у ризалитов. Чередование красного кирпича и оштукатуренной стены создают определенный ритм в стиле арт-деко, пришедший к нам из парижской выставки 1925 года.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: