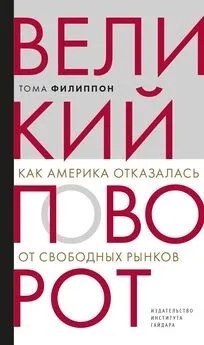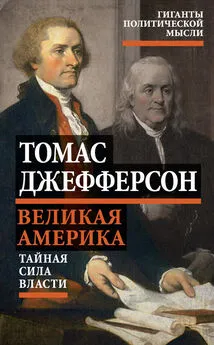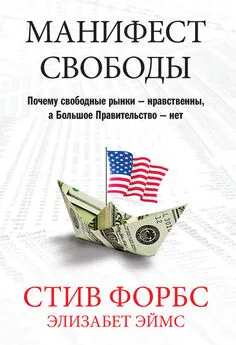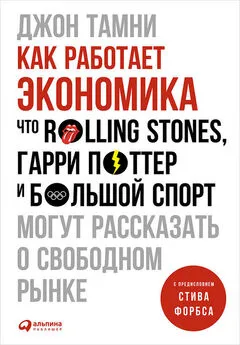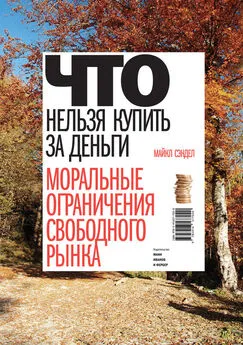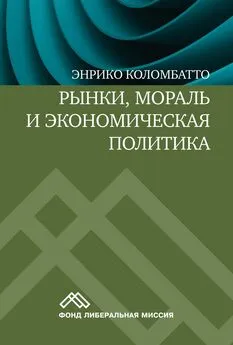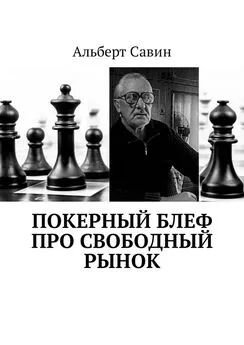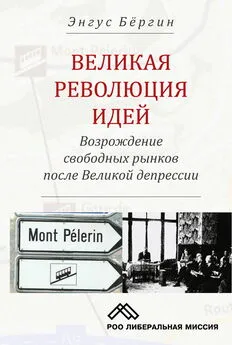Тома Филиппон - Великий поворот. Как Америка отказалась от свободных рынков
- Название:Великий поворот. Как Америка отказалась от свободных рынков
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-93255-583-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Тома Филиппон - Великий поворот. Как Америка отказалась от свободных рынков краткое содержание
Книга предназначена для студентов, преподавателей, экономистов-практиков и всех, кто интересуется проблемами экономики отраслевых рынков и антимонопольного регулирования.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Великий поворот. Как Америка отказалась от свободных рынков - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Тем не менее в этом я определенно потерплю неудачу, по крайней мере, в некоторой степени, поэтому вам, вероятно, будет полезно немного узнать о моих убеждениях, которые на экономическом жаргоне мы называем нашими априорными суждениями (priors), подчеркивая тем самым свою готовность изменить их, если появятся новые факты. Джону Мейнарду Кейнсу часто приписывают следующий ответ оппоненту: «Когда факты меняются, я изменяю свое мнение. А как поступаете вы, сэр?»
Вероятно, наилучшим образом можно обобщить мои априорные суждения, если сказать, что я являюсь либералом и сторонником свободных рынков. Я убежден, что свободные рынки работают лучше всего, при условии, что мы договоримся о том, что мы подразумеваем под «свободными» рынками. Я считаю, что рынки свободны, когда они не подвержены произвольному политическому вмешательству и когда они не подвержены искусственной защите от конкуренции новых участников. Поддержание свободы рынков иногда требует вмешательства государства, но, безусловно, эта свобода исчезает, когда правительства экспроприируют частную собственность, когда участникам рынков позволяется подавлять конкуренцию или когда они успешно лоббируют защиту своей ренты.
Я также либерал в том смысле, что считаю сокращение неравенства достойной целью [1] Понятие либерализма здесь используется не в классическом, а в принятом в США социальном понимании. – Прим. пер.
. Я не верю, что неравенство является злом. Неравенство необходимо, чтобы вознаграждать успех и наказывать неудачу, и было бы бессмысленно спорить с этим. Но я считаю, что в целом в нашей экономической системе больше сил, ведущих к чрезмерному, несправедливому или неэффективному неравенству, чем сил, ведущих к чрезмерному равенству. Таковы те априорные суждения, которых я придерживался, когда писал эту книгу. Убеждения следует обсуждать, и они, безусловно, могут быть оспорены. Я прилагал все усилия, чтобы они не препятствовали ходу моих рассуждений, но не стоит игнорировать потенциальную ценность дополнительной предосторожности.
О данных, анекдотах и интуиции
Данные! Данные! Данные! – раздраженно восклицал он. – Я не могу делать кирпичи не имея глины.
Артур Конан Дойл. Медные букиВ заключение я хотел бы привести хорошо известное в научных кругах клише: «На Бога уповаем, остальное предоставят данные».
Эдвин Р. Фишер, профессор патологии, выступление перед подкомитетом палаты представителей конгресса США в 1978 годуЕсли экономисты и могут быть чем-либо полезны обществу – большое «если», по мнению некоторых критиков, – то по крайней мере своей способностью ставить под сомнение расхожие представления, смотреть на проблему с другой стороны и избегать повторять то, что говорят все остальные. Именно подобным подходом так освежает книга Роберта Гордона «Подъем и падение американского экономического роста». В отличие от оптимистов новых технологий, утверждающих, что скорость инноваций никогда не была так высока, Гордон доказывает, что современная волна инноваций вовсе не так революционна, как предшествующие. Гордон может быть прав, а может и нет, но он готов мыслить последовательно и обосновывать свои заключения данными и логикой, а не анекдотическими ситуациями и предвзятыми идеями.
Также важно подчеркнуть, что умные люди часто не соглашаются друг с другом, и в большинстве случаев это хорошо. На самом деле, я бы сказал, что мы с большей вероятностью узнаем что-то интересное именно тогда, когда умные люди спорят. В 2014 году в интервью Джеймсу Беннету из журнала The Atlantic основатель Microsoft Билл Гейтс сказал: «Я думаю, что идея о том, что инновации замедляются, является одной из самых глупых вещей, которые кто-либо когда-либо говорил». Чтобы проиллюстрировать свою точку зрения, он добавил: «Возьмем наш потенциал в области генерации энергии, потенциал разработки новых материалов, потенциал создания лекарственных средств, потенциал образовательных технологий». Предприниматели склонны рассматривать «журавлей в небе», тогда как экономистов больше интересуют «синицы в руках». Разумеется, нас интересует «потенциальное» применение идеи, но нам необходимо исследовать данные, чтобы удостовериться в ее воздействии. До этого уверения Гейтса в возможном потенциале не могут нас убедить. Пока данные не говорят об обратном, мы склонны следовать за Стефаном Цвейгом и думать, что «Бразилия – это страна будущего и всегда ею останется» [2] Стефан Цвейг (1881–1942) – австрийский писатель, в 1940 году эмигрировал в Бразилию, где написал опубликованную в 1941 году книгу «Бразилия: страна будущего». – Прим. пер.
.
Изменить расхожие представления всегда непросто. Идея о том, что американские рынки наиболее конкурентны в мире, десятилетиями разделяется большинством представителей экономической науки. Бизнесмены утверждают, что никогда еще не было так легко начать новый бизнес, что конкуренция повсюду и что интернет позволяет людям находить самые низкие цены на товары. Мы, безусловно, живем в самом конкурентном, самом потрясающе инновационном обществе. Верно? В какой-то степени эти аргументы отражают универсальную предвзятость человеческой психики, а именно идею о том, что мы умнее и опытнее наших предков и что все, что мы делаем, «беспрецедентно». Мне кажется, что нельзя впасть в больший самообман. На самом деле мало что из того, что мы делаем, является беспрецедентным.
Например, в 1990-е годы было широко распространено представление о том, что бурно развивающийся фондовый рынок достиг самого высокого уровня в истории. Фирмы переходили от этапа стартапа к первичному публичному предложению (IPO – Initial Public Offering) своих акций с рекордной скоростью. По крайней мере, мы так думали. На самом деле, как показали Боян Йованович и Питер Л. Руссо (Jovanovic and Rousseau, 2001), рынок IPO 1920-х годов был удивительно похож на рынок 1990-х годов – поступления от IPO (как доля в валовом внутреннем продукте) были сопоставимы, а переход фирм от первичной регистрации к допуску их акций на биржу столь же быстрым. Хотя в девяностые годы это делалось на дисплеях и компьютерах, сам процесс не был ни принципиально иным, ни принципиально лучшим, чем в двадцатые, без дисплеев и компьютеров.
Первым делом мы всегда должны смотреть на данные. В особенности это верно, если мы интересуемся изменениями, которые происходят на протяжении десятилетий. Мы не можем доверять своей интуиции и, конечно, не должны следовать расхожим представлениям, особенно когда они совпадают с нашими предубеждениями или экономическими интересами. Поэтому, когда вы слышите, как менеджер утверждает, что конкуренция никогда не была более жесткой, вы так же должны верить этому утверждению, как и парикмахеру, который говорит, что вам действительно нужна стрижка. Или, я мог бы добавить, банкиру, заявляющему, что кредитное плечо действительно, действительно безопасно.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: