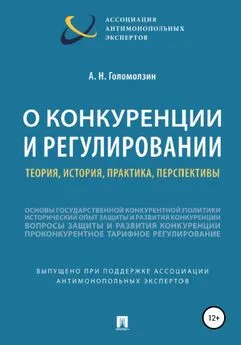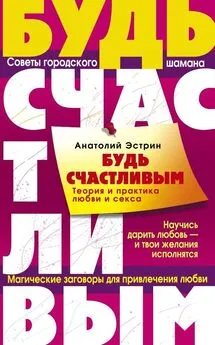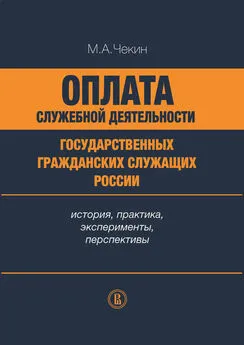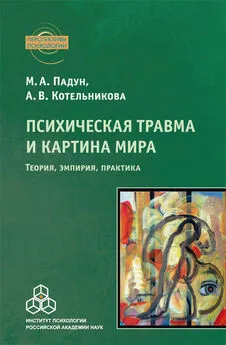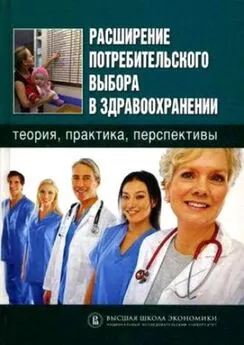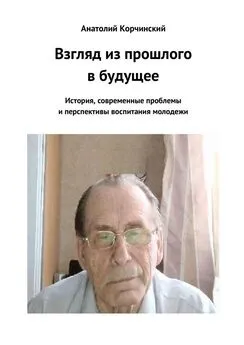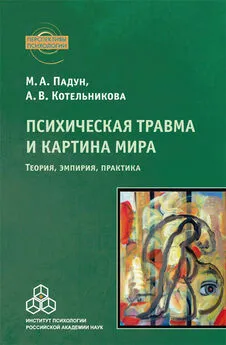Анатолий Голомолзин - О конкуренции и регулировании: теория, история, практика, перспективы
- Название:О конкуренции и регулировании: теория, история, практика, перспективы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2021
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анатолий Голомолзин - О конкуренции и регулировании: теория, история, практика, перспективы краткое содержание
Книга будет полезна практикам и руководителям в компаниях ТЭК, транспорта, связи и информационных технологий и в сопряженных сферах деятельности, государственным и муниципальным служащим, сотрудникам международных организаций и органов. Представляет несомненный интерес и пользу для высшего университетского образования, студентов и аспирантов юридического и экономического профиля, дополнительного профессионального образования.
О конкуренции и регулировании: теория, история, практика, перспективы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В любом случае закон Шермана оказывал не только прямое, но и косвенное воздействие на поведение крупных фирм, представители которых заявляли, что предпочитают концентрироваться на завоевании новых рынков, чем на укреплении своих позиций на традиционных. Как говорили: «В Совете директоров любой крупной корпорации сидит призрак сенатора Шермана». Начиная с 1970—1980-х гг. добровольные реструктуризации в виде отказов от прав собственности (продаж филиалов, подразделений и прав выпуска части ассортимента продукции) стали повседневным явлением американской экономики. Бизнес исходил из понимания того, что правительство всегда будет более грубым хирургом, чем руководство компаний 93.
Многие отрасли подверглись масштабной реструктуризации, в первую очередь те из них, где законсервировались структурные несовершенства, а также в связи с иностранной конкуренцией и технологическими новациями. К ним относятся автомобилестроение (конкуренция с японскими производителями), сталелитейная промышленность, вертикальная дезинтеграция в нефтяном секторе (после появления мирового нефтяного рынка), компьютерная индустрия (после появления микросхем и микрочипов) и ряд других. Проблемы этих и других отраслей были известны и ранее, своевременные меры по реструктуризации, способствующие росту конкуренции, могли бы принести прибыль раньше и с меньшими трудностями для персонала и акционеров. Время и рыночные факторы оказались более мощными факторами структурной перестройки, чем американское антитрестовское законодательство 94.
Весьма ощутимые результаты были достигнуты в США в проведении структурных реформ в топливно-энергетическом комплексе, на транспорте, в области связи. Первоначально были сформированы новые институты и правила отраслевого и тарифного регулирования. Затем сформировались конкурентные рынки электроэнергии, природного газа, телекоммуникаций, железнодорожного транспорта. Была создана коммерческая инфраструктура и прошли процессы дерегулирования этих рынков. Этот опыт с отставанием в 10—30 лет начал тиражироваться в других странах мира, в том числе в Великобритании, Австралии, странах ЕС, Японии и Южной Корее. Экономические реформы расширяли свои границы на Восточную Европу, страны Латинской Америки, Азии, Африки. Координирующую роль играли такие международные организации, как ОЭСР, ЮНКТАД и другие.
Традиционно сильной и конкурентной является банковская сфера США, играющая ключевую роль не только на североамериканских рынках, но и в мировой экономике. Биржевая торговля финансовыми инструментами позволила сделать североамериканские рынки привлекательными для финансовых и инвестиционных ресурсов со всего мира. Технологическое лидерство предопределило ведущую роль американских корпораций на мировых рынках.
Рост производительности труда в США (а также других развитых странах) происходил главным образом за счет применения новых, лучших методов производства более квалифицированной рабочей силой. Прирост производства от 10 до 35% можно отнести на сочетание капитала и экономию эффектов от масштаба, тогда как от 65 до 90% можно отнести на счет повышение образования персонала и внедрение достижений научно-технического прогресса 95. Росс и Шерер сделали вывод, что для убыстрения технического прогресса необходимо тонко соединять конкуренцию и монополию, уделяя основное внимание первой и снижая роль и значение второй. Они отмечали, что высокий уровень концентрации редко оказывает стимулирующее влияние на инновации, гораздо чаще он может замедлять технологический прогресс, при том, что технически смелые инноваторы играют ведущую роль в осуществлении радикальных нововведений и что барьеры входа на отраслевые рынки в этих целях должны снижаться. Что Шумпетер был прав, утверждая, что совершенная конкуренция не может быть использована в качестве совершенной модели динамической эффективности, но его менее осторожные последователи ошибались, когда делали вывод о том, что что влиятельные монополии и жесткие картели имеют большее право служить такой моделью 96.
Значительные изменения в антимонопольной юриспруденции произошли в 1970-х годах, когда строгое соблюдение антимонопольного законодательства послевоенного периода вызвало негативную реакцию, что привело к изменению закона и политики. Превалировать стало новое экономическое мышление, связанное с Чикагской школой права и экономики. В результате многие виды деловой практики, когда-то считавшиеся антиконкурентными, стали законными. Применение антимонопольного законодательства сузилось, и судебная система стала меньше вмешиваться в контроль за рыночными сделками. Перестали уделять внимание прежним опасениям относительно защиты от чрезмерного политического влияния или сохранения высоких долей конкурентов на рынке 97.
Представители чикагской школы считали, что рынки изначально конкурентны, и что правительства не должны вмешиваться в целях защиты конкуренции. По мере роста влияния чикагской школы, суды следовали этой доктрине, даже несмотря на применение «правила разумности» при балансировании эффективности и антиконкурентных эффектов. К примеру, монопольно высокие цены не считались проблемой с учетом низких барьеров входа на рынки. Следствием такого подхода стало расхождение теории с практикой, когда раз за разом возникал вопрос существования рыночной власти, а также антиконкурентного поведения фирм, злоупотребляющих этой властью. Современная экономическая теория (включая достижения, связанные с пониманием ассиметричности информации и с теорией игр) отвергла большинство из положений чикагской школы писал нобелевский лауреат Дж. Стиглиц 98. Он говорил, конечно излишне категорично, но оправданно в дискуссии с представителями чикагской школы с их не менее крайними позициями, что даже конкурентные рынки не эффективны, а «невидимая рука рынка» Адама Смита потому и невидимая, что ее не существует. Рынки не являются конкурентными в общем случае, существует широкий набор механизмов, благодаря которым рыночная власть возникает, поддерживается и расширяется.
В последнее время некоторые западные экономисты призывают юристов уделять больше внимания несовершенству рынка, которое упускает из виду Чикагская школа. Этот так называемый пост-Чикагский анализ способствовал возобновлению внимания к антиконкурентному поведению и потребительскому вреду. Новое прогрессивное движение утверждает, что интерпретация Чикагской школы превратила антимонопольную юриспруденцию в оболочку своего прежнего «я» и вытеснила важные опасения, что концентрированная экономическая власть влияет не только на рыночную конкуренцию, но и на демократическое политическое участие. Возможно, опираясь на пост-Чикагский импульс, реформаторы надеются возродить политическую идеологию антимонополии в современной внутренней политике 99.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: