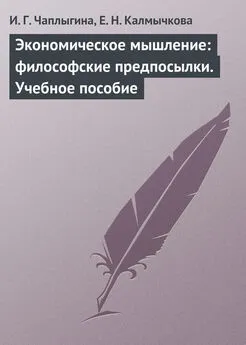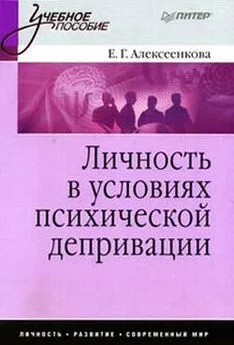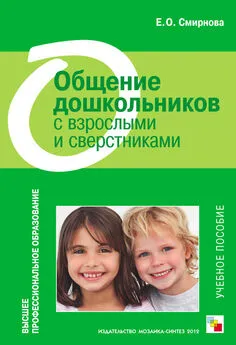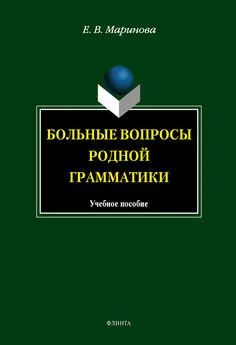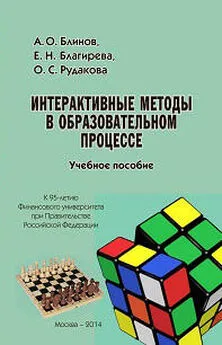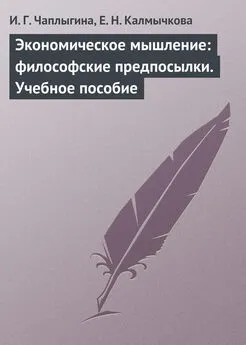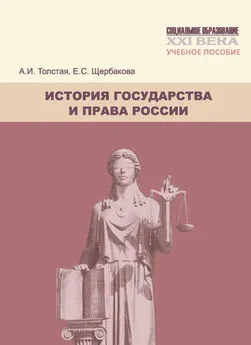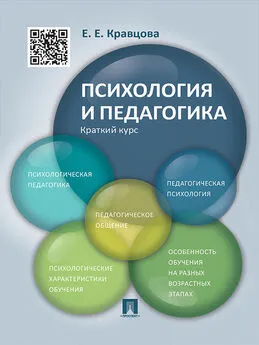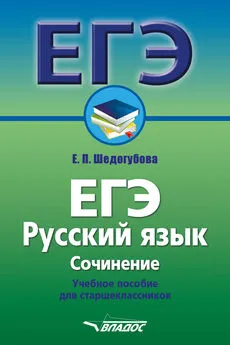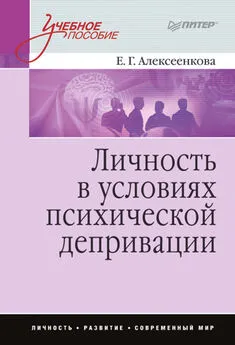Елена Калмычкова - Экономическое мышление: философские предпосылки. Учебное пособие
- Название:Экономическое мышление: философские предпосылки. Учебное пособие
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2005
- Город:Москва
- ISBN:5-16-002011-X
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елена Калмычкова - Экономическое мышление: философские предпосылки. Учебное пособие краткое содержание
Экономическое мышление: философские предпосылки. Учебное пособие - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Дополнительная
1. Аристотель. Никомахова этика // Аристотель. Этика, политика, риторика, поэтика, категории. Минск: Литература, 1998. С 142–408.
2. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. M., 1991.
3. Красильщиков В.Л. Превращения доктора Фауста. M., 1994.
4. Платон. Законы. Кн. 9—11. M.: Мысль, 1999.
5. Поланьи К. Великая трансформация. Политические и экономические истоки нашего времени. СПб.: Алетейя, 2002.
6. Поппер К. Открытое общество и его враги. M., 1992.
7. Розинская Н. Методологические проблемы экономической антропологии // Очерки экономической антропологии. M., 1999. С 78–94.
Глава 2. Структура личности средневекового человека в христианской моральной философии
В эпоху средневековья в Западной Европе сложилась непростая духовная обстановка. Отказ от изучения явлений физического мира, глубокий пессимизм относительно судьбы мира и человека, сомнения в познаваемости мира силами разума – все это породило духовный кризис в XII–XlII вв. Этот кризис отразился и в понимании структуры личности. Греховность человека, его слабость перед лицом искушений и опасностей мира приводила в отчаяние многих интеллектуалов и богословов.
2.1. Учение о человеке идеологов раннего средневековья. Проблема самостоятельности человека и его возможности проявлять свободную волю
Для средневекового исследователя положения моральной теологии значили гораздо больше, чем любая экономическая проблема. Это объясняется спецификой сознания средневекового человека, которому присуши прежде всего универсальность, символизм и иерархичность. Прекрасные исследования проблем средневекового мышления были проведены в начале XX в. в российской исторической науке T.П. Карсавиным и П.М. Бицилли. Л.П. Карсавин, кроме того, провел специальные исследования обыденного мышления, т. е. структуры сознания рядового человека средневековья.
До появления схоластической науки в раннем средневековье с трудом можно выявить какие-либо последовательные экономические воззрения. Экономические проблемы находят выражение в основном в различных правовых документах – правдах, капитуляриях, ордонансах. Они трактуют проблемы в области практики, а не теории, в них находят отражение универсальность и иерархичность мышления, описывается не реальная жизнь или практика хозяйствования, а идеал, особый благоустроенный мир, где все на своем месте – работы, продукты, люди по своим работам и местам и даже скотина по видам и породам. Чувствуется стремление заключить каждый из этих миров в свой универсум, в самодостаточный космос и идеально его упорядочить. Обеспечение полной упорядоченности, замкнутости и самодостаточности – несомненный идеал, отражающий чаяния стабильности, сытости, защищенности [21] См.: Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. M., 1992, С. 126–129.
.
В этих же документах отражен и символизм мышления средневекового человека. Любое наведение иерархического порядка на Земле отражает необходимость такого порядка, предписанную небесной иерархией.
В этой же связи с мышлением и структурой сознания средневекового человека находятся такие явления, как медлительность хозяйственного и технического прогресса, бесконечные попытки создать мировую империю, крестовые походы и т. д. Средневековый человек всецело подчинялся обычаю, не разделяя при этом духовые и материальные процессы. За видимым миром он ощущал присутствие мира невидимого, но гораздо более важного, определяющего, представляющего идеальный проект мира физического. Причем единство и универсальность представлений о мире приводит не только к «идеализации» физического мира, но и к «материализации» мира идеального. Иерархия всего сущего представляет собой непрерывный ряд объектов неживой и живой природы, человека с его социальной организацией, святых и ангелов вплоть до Бога.
Л.П. Карсавин подчеркивал, что такой тип мышления являлся не привилегией интеллектуалов или измышлением философов, а обыденным сознанием. Он видит распространенность такого мышления в культе святых, устойчивости веры в бесов и ангелов-хранителей, наконец в том, что средневековый человек в каждом событии усматривал непосредственное отражение Божьего промысла [22] Карсавин П.Л. Основы средневековой религиозности. СПб., 1997. С 82–97.
.
Однако такие характеристики сознания средневекового человека являются только идеальным требованием, которое церковь предъявляла к человеку или же человек предъявлял сам к себе. Человек стремился сохранять гармонию внутреннего мира, чтобы жить в согласии с миром и с собой, чтобы самому «вписаться» в иерархию мира, обеспечить себе личное спасение души. Вместе с тем возникал очень сложный вопрос о соотношении этой иерархии и закрепленного места человека с его свободой волей, личным спасением души. Если во всем, что происходит вокруг, можно усмотреть непосредственное проявление божественного промысла, то может ли человек познать этот мир и в результате своих действий изменить предначертанный ему жребий?
Был ли средневековый человек в Западном мире индивидуалистом или коллективистом? Это непростой вопрос. Безусловно, высшим идеалом было индивидуальное спасение. Особенно ярко это желание спасти свою душу проявилось в мистической практике. Напряжение мысли усиливалось желанием преобразовать свое сознание до такой степени, чтобы полностью слиться с Богом. Вместе с тем средневековый человек не мыслил себя вне универсума, вне своего, заранее предначертанного места в нем. Слияние с Богом также мыслилось как преодоление собственной ограниченности и выход к всеобщему, соединение с ним. Создавалось сложное и противоречивое сочетание различных идей. Средневековый человек жаждал жить в гармонии с миром, но в реальной действительности этой гармонии не находил. Он сталкивался с противоречиями как в материальной жизни, так и в собственном сознании.
Особенно ярко эти противоречия проявлялись в представлении о благе и пользе. Что есть благо для отдельного человека – счастье, польза, удовольствие, удовлетворение потребностей? Каждый человек хочет удовлетворить свои потребности. Но имеет ли он на это право? Всели потребности достойны удовлетворения? Как соотносится удовлетворение потребностей и спасение души? Ответы на эти вопросы можно было найти в системе моральной философии, т. е. в различных этических системах.
Моральная философия, изложенная Ансельмом Кентерберрийским, полагает, что высшая цель стремления человека – праведность, счастье, бытие в Боге. Специально проводится различие между этой целью и удовольствием, наслаждением; первая цель – выражение свободной человеческой воли, вторая – выражение ее ущербности. Стремление к первой цели приносит счастье, ко второй – страдание, так как стремление к удовольствиям предшествует удовольствию и создает его, а эта гонка бесконечна и может привести только к бесконечной ненасыщенности и страданию. Главный «мотор» экономического развития, который согласно неоклассической экономической теории движет весь прогресс человечества, т. е. ненасыщаемость человеческих потребностей, объявляется главным источником зла» порождением ущербности воли и греха [23] См.: Кентерберийский Ансельм. Сочинения. M., 1995. С. 200–201.
. Таких же убеждений придерживался и Фома Аквинский. Можно провести параллель с положением Аристотеля о блаженстве как жизни в согласии с добродетелью, освещенной разумом. Такая добродетель включает разумное удовлетворение потребностей, исполнение гражданского долга, умение использовать богатство с пользой для себя и общества. Однако нигде Аристотель не сталкивался с проблемой спасения души и соответствием своего иерархического места воле Божественного проведения. Его человек менее иерархичен и более самодостаточен.
Интервал:
Закладка: