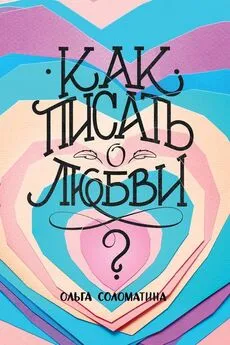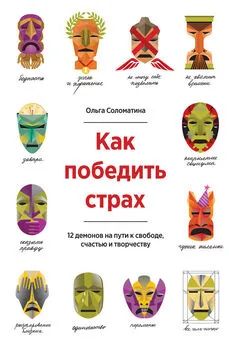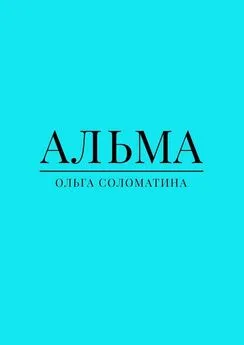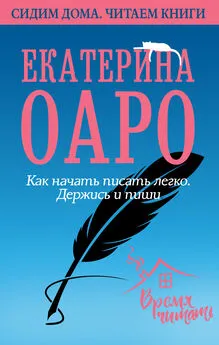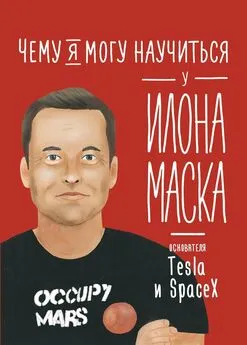Ольга Соломатина - Писать легко: как сочинять тексты, не дожидаясь вдохновения
- Название:Писать легко: как сочинять тексты, не дожидаясь вдохновения
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Манн Иванов Фербер
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-500057-001-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ольга Соломатина - Писать легко: как сочинять тексты, не дожидаясь вдохновения краткое содержание
Ольга Соломатина – журналист и медиатренер. Она училась на факультете журналистики МГУ и уже почти 20 лет работает в издательском доме «Коммерсант», из них шесть лет – редактором спецпроектов.
Она автор книг «101 совет по работе со СМИ», «Женщины-легенды: сильный слабый пол», «101 совет по работе в социальных сетях». Кроме того, Ольга ведет собственные учебные программы по работе со СМИ и курс «Писать легко», по материалам которого составлена эта книга.
Писать легко: как сочинять тексты, не дожидаясь вдохновения - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
– Вы хотите сказать, что и заявления генеральному прокурору с просьбой закрыть дело Владимир Вольфович тоже не писал?
– Нет. Наш разговор закончен.
Едва я ступила за дверь, пресс-секретарь зашипел на меня:
– Что же вы задавали личные вопросы? Вы меня подставляете. У меня будут неприятности.
Анонс на обложке журнала «Власть», в котором интервью опубликовали, звучал так: «Сын Жириновского написал и нарисовал для Ъ». Пресс-служба безмолвствовала. Через неделю Игорь Лебедев позвонил мне сам и оставил номер своего мобильного. Чтобы был. На всякий случай.
Больше мы с ним ни разу не говорили.
Ничего личного. У меня не было желания «топить» интервьюируемого. Способность разговорить собеседника, а порой и спровоцировать у него сильные и не всегда приятные эмоции – профессиональный прием журналистов, бесценный дар. Секрет удачного интервью – тщательно подготовленная импровизация. От личности интервьюера качество текста зависит ничуть не меньше, чем от героя интервью.
Например, когда в девятнадцать лет я должна была взять интервью у одного из двенадцати помощников президента Бориса Ельцина, я честно призналась редактору, что сделать это не смогу. От одной мысли, что я вхожу в ворота Спасской башни, иду в кабинет, в котором бывает президент, да еще и вопросы должна задавать, я впадала в транс, давление поднималось, и я плохо понимала, что мне говорят. Ничего, ответила начальница, мы напишем вопросы на бумажке, ты их просто зачитаешь. М-да… я прочла. Когда мы уже в редакции перечитывали распечатанное интервью, редактор спрашивала: «Ну почему вот тут ты не спросила, имеет ли он в виду Чубайса? А тут не уточнила порядок цифр?!» Увы! В девятнадцать лет я была не готова говорить с помощником президента. Интервью могло бы быть гораздо интереснее, если бы вместо меня его взял более опытный коллега.
Много лет спустя, в 2010 году, я выпускала путеводитель по Люксембургу, и мне выпала огромная удача – интервью с премьер-министром герцогства Жаном-Клодом Юнкером, архитектором Европейского союза, фигурой на европейском политическом олимпе уникальной: тридцать лет член правительства герцогства, пятнадцать лет на должности премьер-министра.
Мы привыкли согласовывать вопросы к первым лицам с их помощниками. Поэтому еще в Москве я спрашивала, есть ли у посла Люксембурга пожелания, о чем мне стоит спросить господина премьера.
– Спросите, курит ли он так же много, как раньше. Скажите, что мы в Москве беспокоимся о его здоровье, – посоветовал Гастон Стронк. – Поговорить не о политике вам с ним вряд ли удастся: в ней вся его жизнь.
Каждый, кто знаком с Жаном-Клодом Юнкером и кого я спрашивала, какие вопросы ему задать, вспоминал о своих встречах с премьер-министром Люксембурга с явным удовольствием и обещал, что мне будет легко. Но информации у меня по-прежнему было мало. Русскоязычная пресса о Жане-Клоде не писала ничего, кроме официоза, – приходится искать и переводить публикации европейских коллег и речи премьер-министра. Но и тут – много о политике и крайне мало о нем самом и его жизненном пути, а то, что удается узнать, вызывает сомнения в уместности вопросов. Например, я читаю, что отец господина Юнкера был призван в армию Третьего рейха и воевал на стороне нацистов… Что пару лет назад Жан-Клод попал в аварию и провел несколько месяцев в коме… Он женат со студенчества, но у них с женой нет детей. У премьера много лет была любимая собака, но недавно она умерла.
То есть «комфортных» тем для разговора вне политики найти не удается.
Итак. Я прихожу в особняк, где работает премьер-министр, и сообщаю охране, что я русская журналистка и мне назначена встреча. Не проверяя ни документов, ни вещей, охрана проводит меня в просторный прокуренный кабинет на первом этаже. Вместо отведенного получаса мы говорим почти полтора, часы на соседней башне успевают пять раз проиграть свою мелодию. Премьер-министр непрерывно курит.
В начале встречи на меня неожиданно накатывает осознание того, что я говорю с человеком, влияющим на историю Европы. Оставим пафос за дверью. Помните, в школе на уроках истории мы проходили феодальную раздробленность, за которой обязательно следовала централизация земель? Вот и в конце XXI века, повествуя об истории европейских стран первой половины столетия, напишут: одним из видных общественных деятелей своего времени, стоявших за процессом современной централизации в Европе, был Жан-Клод Юнкер. Это он на мосту над речкой в деревне Шенген, на границе трех стран – Бельгии, Германии и Франции – подписал первый договор о вступлении в союз первых стран – участниц шенгенского соглашения.
И я ловила себя на том, что забыла все приготовленные вопросы и уж точно не смогу озвучить провокационные. Хотя, наверное, надо было. Скучно спрашивать только о политике. К счастью, господин Юнкер дал развернутый ответ на первый вопрос, и я успела отдышаться, успокоиться и начать слушать. Чтобы разговорить собеседника, расположить его и получить ответы и на личные вопросы, вначале я побудила премьер-министра много говорить о том, что интересно ему, – о политике в Европе, отношениях между Евросоюзом и Россией.
Потом все же рискнула спросить Жана-Клода, что делал его отец с сорок первого по сорок пятый год. И получила достойный уважения ответ:
– Когда мне исполнилось тринадцать лет, он стал понемногу рассказывать собственную историю войны. С самого начала он сказал, что война – это ужас. В пятнадцать-шестнадцать лет я понимал, что война, о которой отец говорил почти нейтрально, разорвала его судьбу. Я осознал, что мне хотелось бы принадлежать к числу тех, кто сделает так, чтобы отцам не приходилось рассказывать своим детям о боевых действиях. Я открыл для себя Европу, ее историю через призму жизни своего отца. Я стал искать себе дело, которое позволит влиять на историю Европы. Решил стать журналистом. Но чем больше я думал, тем больше понимал, что журналисты описывают историю, но не делают ее. Я сам себя спрашивал: хочу ли я всю жизнь комментировать глупости других или хочу совершать их сам? Я не пытаюсь убедить вас в том, что вершу историю.
Про клиническую смерть господина премьер-министра и о том, изменила ли она его отношение к жизни, я спросить не смогла. Язык не повернулся. Хотя нисколько не сомневаюсь, что Жан-Клод Юнкер смог бы с честью отреагировать и на такое вторжение в его частную жизнь.
Задача журналиста в интервью – показать человека таким, какой он есть. Чувствуете разницу между интервьюируемыми Игорем Лебедевым и Жаном-Клодом Юнкером, которого невозможно выставить глупцом? Облик достойного умного собеседника вообще сложно исказить. Сколько ни пытайся.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:


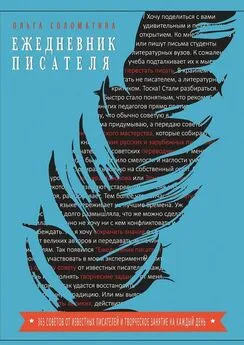
![Ольга Соломатина - Чему я могу научиться у Илона Маска [litres]](/books/1075471/olga-solomatina-chemu-ya-mogu-nauchitsya-u-ilona-mas.webp)