В Ильин - Саврасов. Рождение весны. Страницы жизни художника
- Название:Саврасов. Рождение весны. Страницы жизни художника
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:1973
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
В Ильин - Саврасов. Рождение весны. Страницы жизни художника краткое содержание
Книга эта — о замечательном художнике и педагоге Алексее Кондратьевиче Саврасове.
Саврасов. Рождение весны. Страницы жизни художника - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
От листа к листу рисунки усложнялись и завершались видами природы и сельскими сценами.
Только два рисунка Алексей Кондратьевич оставил на столе — надо было чуть подправить. Он на мгновенье перевел взгляд на окно — ветер разметал, наконец, надоевшие тучи — и принялся за работу.
Рисунки точны, изящны. Но не было в них той свободы, которая отличала саврасовские работы этой поры. Что поделаешь, возможности художника сковывали традиции преподавания. Независимо от того, касалось ли это учебного альбома — рисунки на листах предназначались для него, — или занятий в классе.
Правда, за минувшие годы в Училище многое изменилось. И не только из-за расширения учебной программы. Училище обрело большую самостоятельность. После присоединения к нему Училища архитектуры, второму в России художественному заведению было предоставлено наконец право присуждать ученикам звание художника.
Тем не менее преподавание все еще велось по старинке, согласно невесть когда сложившимся правилам.
То, что в пейзажном классе, как встарь, копируют с эстампов карандашом и красками, — это хорошо, «сие положено». А вот простые отношения с учениками — сомнительное новшество. Между тем, кто учит, и теми, кого учат, должна соблюдаться дистанция.
Что уж говорить о работе над картинами в присутствии учеников! Большинству преподавателей это казалось неуместной, раздражающей вольностью. Хотя бы потому, что мало кто из них рискнул бы взяться за кисть под обстрелом десятка зорких, все подмечающих глаз учеников.
Правда, поначалу многие коллеги не приняли это нововведение всерьез: чего не сделаешь по молодости лет, дайте срок — все уляжется, войдет в привычное русло.
Теперь новшества руководителя пейзажного класса вызывали к нему все большую неприязнь значительной части преподавателей.
Со временем это принесет Алексею Кондратьевичу немало горечи и боли. А пока что — лишь колкие замечания, холодные поклоны, иронические смешки за спиной — мелочная суета, которую Саврасов не всегда и замечал. А если и видел — не придавал значения. Да и не до того ему. Он поглощен своей работой, занятиями с учениками.
Впрочем, для него это по-прежнему неотделимо. Преподаватель приносит в класс свои раздумья и находки. Здесь на глазах учеников создаются его картины, в том числе многочисленные виды Швейцарии.
Конечно, это не главное в его поисках. Тем не менее работа над новой для художника натурой сделала его руку более точной и уверенной, разнообразила манеру письма.
Это сказалось и в такой, казалось бы, неожиданной для Саврасова области, как декоративная живопись.
Два года назад в Дворянском собрании состоялся новогодний праздник. По замыслу его устроителей каждый зал был украшен видами какой-нибудь страны. Для этого пригласили группу художников. На долю Алексея Кондратьевича выпали виды Малороссии, Древней Греции…
Убранство залов вызвало восторженные толки. Его называли «приятным сюрпризом господ живописцев». Отмечались и «полные изящества ландшафты господина Саврасова».
Его имя становится все более известным. А вместе с тем растет и число заказов на картины, что было весьма кстати, так же, как и предложение взять на себя пейзажный отдел учебного альбома — у Саврасовых родилась вторая дочь, Женя.
Среди заказчиков, кроме швейцарских сюжетов, особым успехом пользовались мотивы с купами тенистых деревьев у воды, сродни тем, что писал художник после возвращения из Петербурга.
Казалось, все сложилось как нельзя лучше — можно разрабатывать пользующиеся успехом сюжеты, успокоиться.
Но Алексея Кондратьевича томила неудовлетворенность. Будто и неплохо все, что сделано, да не так, как должно бы быть, — словно что-то главное недосказано, недоговорено.
Софи улыбалась: никто так не придирчив к картинам Алексея, как он сам! Но взгляд ее серых глаз серьезен: поиски чего-то нового — сейчас, когда работы Алексея пользуются таким успехом! — пугали ее своей неопределенностью. Только-только удалось проложить дорожку к благополучию — и вдруг все начинать сызнова.
Однако Алексей не собирался ни пренебрегать сложившимися в Училище традициями, ни отказываться от заказов на картины. Его поиски сочетались с повседневной работой, как то необходимое, без чего все теряло свой смысл.
В этом его убеждало и всегдашнее чувствование природы, и опыт, и новые воззрения, которые, что называется, носились в воздухе.
Красота человека виделась уже не в знатности, роскошных одеждах или искусственных позах, а в духовной чистоте, глубине души.
С такой же меркой стали подходить и к красоте природы. К чему искать что-то исключительное, к чему искусственная придуманность пейзажа? Разве не прекрасна природа своей безыскусственностью? Чем природа обыкновеннее, тем ближе человеку.
Вот что было духом времени. Вот о чем толковал Саврасов с художником Василием Григорьевичем Перовым, когда тот приходил к нему на Мясницкую.
Они сдружились как-то сразу, едва успев познакомиться, и теперь частенько «отводили душу» за разговором. Обычно беседа в тесной квартирке была лишь началом — главное отводилось на потом, когда они поднимались сюда, в мастерскую.
Но основное в поисках художника не разговоры — встречи с натурой. Иногда вместе с учениками, иногда в одиночестве.
Художник стремился отрешиться от ставших привычными канонов «живописания природы». Все то, что было усвоено и даже приносило успех, мешало передать живое дыхание натуры.
Чем решительней отметались условности, тем большей свежестью, непосредственностью радовали рисунки.
От этюда к этюду, от рисунка к рисунку собирал художник то новое, что так полно выразилось в картине «Лосиный остров в Сокольниках».
Хоть в этом полотне было и всегдашнее, саврасовское, все-таки пейзаж был не похож на все созданное художником ранее.
В картине поражало правдоподобие всего, что изображалось. Не было в пейзаже ни нарядности, ни особой живописности. Все прозаично: и небо, затянутое мелкими облачками, и стадо коров на влажном лугу, и невзрачные кустики, и болотные кочки. Все знакомо и вместе с тем незнакомо. Казалось, привычное, обыденное заговорило, задышало, открыло, наконец, свою скромную прелесть.
Пейзаж сразу обратил на себя внимание. На конкурсе Общества любителей художеств картина получила первую премию.
Но это будет через год.
А сейчас художник заканчивал работу над рисунками для альбома «Курс рисования».
Саврасов поднял лист так, чтобы на него падал свет из окна. И, видимо оставшись доволен поправками, отложил в сторону.
Он взялся было за второй рисунок, но на лестнице послышались чьи-то шаги, а затем чуть хрипловатый голос Перова: «Ты у себя, Алексей?»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
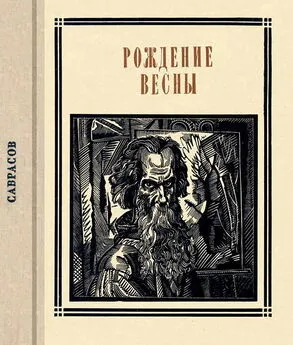

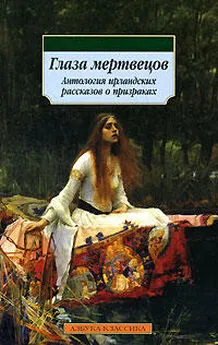
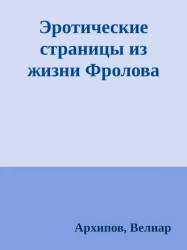
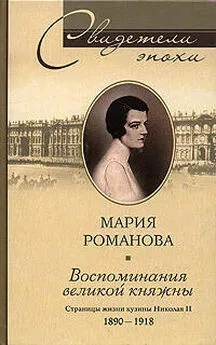
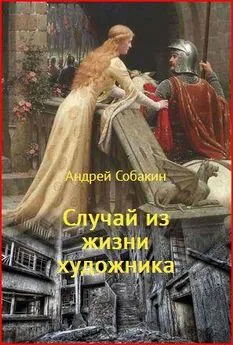
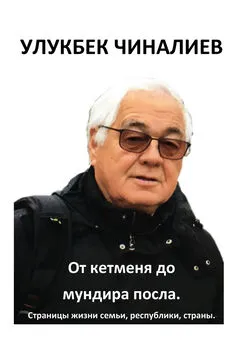
![Юрий Нагибин - Страницы жизни Трубникова [Повесть]](/books/1070375/yurij-nagibin-stranicy-zhizni-trubnikova-povest.webp)
