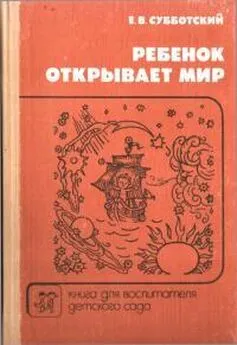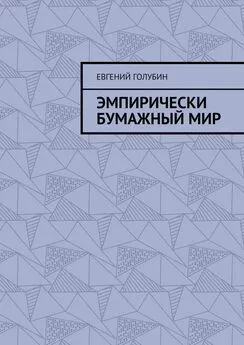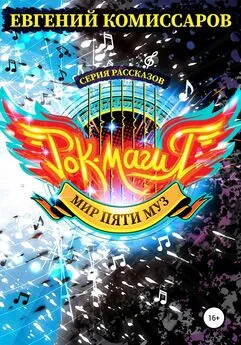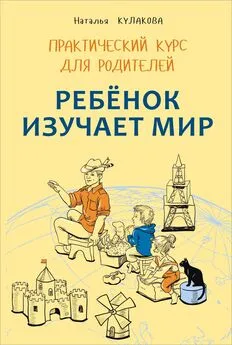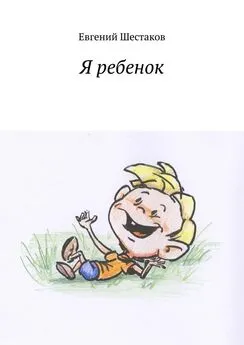Евгений Субботский - Ребенок открывает мир
- Название:Ребенок открывает мир
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Просвещение
- Год:1991
- Город:М
- ISBN:5-09-002817-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Субботский - Ребенок открывает мир краткое содержание
Книга адресована воспитателям детского сада и родителям.
Ребенок открывает мир - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Возможно, читатель спросит: «Как же так? Ведь способ объяснения мира нельзя сбросить подобно тому, как змея сбрасывает старую кожу. Если ребенок верит в то, что предметы могут думать и понимать, как же можно опровергнуть это на опыте? Ведь мы не можем раскрыть предмет и показать, что внутри у него нет никакой психики. А раз так — любой опыт и внушения взрослых не смогут опровергнуть веру ребенка в то, что вещи и явления природы способны думать, чувствовать, понимать?»
Вопрос серьезный. И ведь дело не только в том, что мы не в силах «разрезать» предмет и показать, что у него нет никаких внутренних, психических свойств. Главное препятствие к разрушению анимистического мышления в том, что восприимчивость к опыту, к противоречию уже предполагает отношение к природе как к совокупности обычных, неодушевленных вещей. Если такого отношения нет, никакой опыт не в состоянии поколебать уверенность человека в одухотворенности вещей, в нашей способности «магически» влиять на них. Ведь то, подчиняется или нет вещь нашему «магическому» воздействию, зависит от ее «доброй воли». А значит, любое количество неудач не может считаться опровержением «магической» практики. Просто во всех этих случаях природа «не захотела» нам подчиниться. В самом деле, веками люди верили, что болезни можно изгонять заклинаниями, духов дождя — уговаривать посылать дождь... Если бы опыт мог разрушить эту веру, она, несомненно, исчезла бы уже тысячи лет назад. Почему же, несмотря на неудачи, люди упорно продолжали заклинать духов? Да потому, что любой неудаче сразу находилось соответствующее сверхъестественное объяснение. Если европеец, путешествуя по Экваториальной Африке прошлого века, стрелял в священную птицу и не попадал, местные жители торжествовали. Так и должно быть — ведь священная птица неуязвима. Если выстрел был метким, сомнений все равно не возникало. Ведь он белый, а на белых влияние духов не распространяется.
Итак, опыты швейцарского психолога ставят перед нами трудную проблему. Оказывается непонятным, как ребенок, сознание которого является анимистическим, переходит к естественнонаучному пониманию мира природы? Теоретически это кажется невозможным, практически это так. В чем тут дело?
Да и существует ли вообще анимизм детского сознания? Не является ли этот феномен просто изобретением психологов, ничего общего не имеющим с реальным процессом развития детского мышления?
В самом деле, обратим внимание на метод Пиаже. Это метод словесного опроса. Но ведь то, что на словах ребенок приписывает душу Солнцу, Луне, ветру, еще совсем не значит, что он и на самом деле верит в одушевленность вещей. А не является ли анимизм... простым следствием особенностей детской речи? Особенностей, за которыми не скрыто никакой веры? Ведь и мы, взрослые, сплошь и рядом употребляем выражения и словообороты с анимистическим содержанием. Мы говорим «Ученье и труд все перетрут», прекрасно понимая, что ни «ученье», ни «труд» не являются субъектами и не могут целенаправленно действовать. А такие бытующие в нашей речи выражения, как «Солнце взошло»; «Туча закрыла небо»; «Тарелка разбилась»? Да вся речь взрослых людей буквально пронизана анимистическими оборотами, за которыми, конечно, не стоит никакой веры в то, что неодушевленные предметы могут сами «всходить», «закрывать», «разбиваться». Мы понимаем условность этих выражений. Их символическое значение. Так почему же мы должны считать, что ребенок, употребляя те же слова, действительно верит в магию, волшебство и одушевленность вещей?
Да и на словах дети далеко не всегда проявляют эту веру. Американский психолог Хуанг в конце 20-х гг. нашего века провел любопытное исследование. Он предлагал малышам объяснить ряд фокусов и непонятных физических явлений. Вот на глазах у ребенка в носовой платок заворачивают зубочистку, дают малышу ее сломать, а затем, развернув платок, демонстрируют, что она цела. Вот, бросив в рукав монету, взрослый «достает» ее через ткань пиджака. Вот малыша просят объяснить, почему все железные предметы тонут, а игла, осторожно опущенная на поверхность воды, плавает; почему вода не выливается из пробирки, опущенной отверстием вниз, если к отверстию приставлен листок бумаги.
Казалось бы, наблюдая столь непонятные ему явления, ребенок непременно должен прибегнуть к понятию волшебства? Проявить веру в способность вещей к целенаправленным, сознательным действиям? Ничуть не бывало! Почти все дети, даже самые маленькие (4—5 лет), пытались объяснить загадочные явления вполне естественным образом. Правда, истинные причины явлений они указать не могли. Объясняя фокус с монетой, дети говорили, что в рукаве была дырка. Иголка плавает, потому что она «легкая» и «сухая». Вода не выливается из пробирки, потому что бумага «приклеилась». Но все же это были ответы в духе научного мировоззрения — ведь и ученые, объясняя новые явления, не всегда правильно указывают их истинные причины. И конечно, такие ответы детей совсем не предполагали наличие в вещах какой-бы то ни было души или психики.
Сходные данные были получены советскими психологами А. В. Запорожцем и Г. Д. Луковым. Они предлагали малышам бросать в воду маленькие предметы, различные по форме и материалу, и предсказывать, будет предмет плавать или нет. Затем ребенок должен был объяснить, почему опыт подтвердил или опроверг его догадку. Оказалось, что вначале малыш дает самые неожиданные объяснения, часто противоречащие друг другу. Постепенно, однако, он начинает понимать, что плавают не все маленькие предметы. И даже не все легкие предметы. Наконец, самые старшие дети под воздействием опыта давали Ответы, близкие к понятию удельного веса. Но вот что интересно: даже неправильные ответы детей были вполне наукообразны! Испытуемые не обращались к идее анимизма. Под влиянием опыта их суждения о причинах плавания тел приобретали все более зрелый характер.
Кто же прав? Почему данные ученых противоречат друг другу? Ведь согласно опытам Пиаже мышление 3—6-летнего ребенка анимистично. Малыш одухотворяет природу. Верит в способность предметов к сознанию, воле, пониманию. Другие же исследователи показывают обратное: уже 4-летний малыш может давать непонятным явлениям наукообразное объяснение. Способен изменять его под влиянием опыта. Да и сам швейцарский исследователь в некоторых опытах подтверждает: суждения детей отнюдь не всегда анимистичны.
Итак, вопрос о том, существуют ли для ребенка «живые предметы», остается открытым. С одной стороны, в своих суждениях о природе и космосе дети как будто выражают веру в способность вещей к психическим проявлениям, а значит, и веру ввозможность магии и волшебства (ибо что такое волшебство, как не способность мысленно заставить предмет подчиниться нашим желаниям?). С другой стороны, объясняя не менее непонятные явления, ребенок рассуждает вполне здраво, не прибегая ни к какой магии и духам, якобы обитающим в неодухотворенных телах.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: