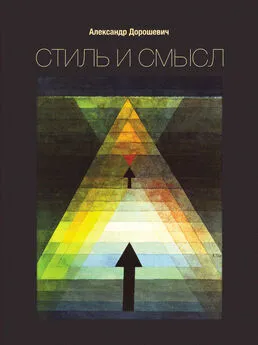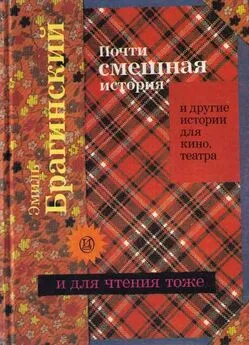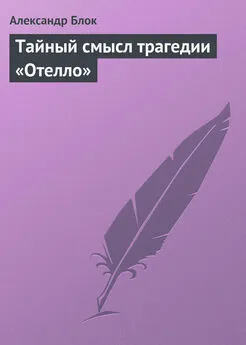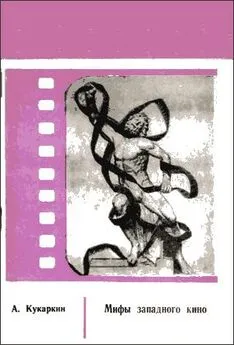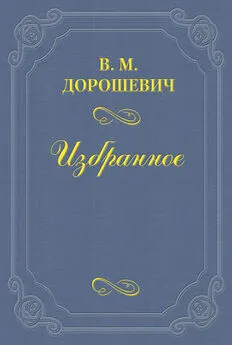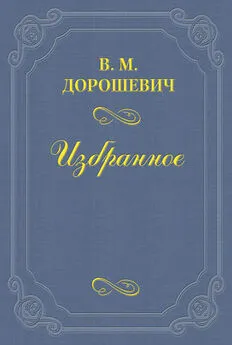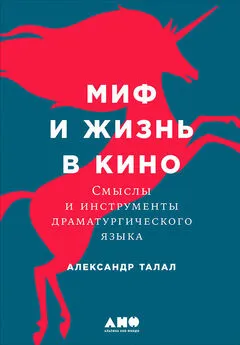Александр Дорошевич - Стиль и смысл. Кино, театр, литература
- Название:Стиль и смысл. Кино, театр, литература
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-87149-150-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Дорошевич - Стиль и смысл. Кино, театр, литература краткое содержание
Стиль и смысл. Кино, театр, литература - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Определяя, предположим, «Кубанских казаков» как «Корею» с элементами «декаданса» («Каким ты был, таким ты и остался…»), нам не приходило в голову считать их «большим сталинским стилем», как это делается сейчас. Слишком близко мы видели и ощутили на себе это время, чтобы большую дубину, которой нас и наших старших современников лупили по голове, с ученой многозначительностью именовать «большим стилем» и почтительно воздавать ей должное, противопоставляя эклектике более поздних десятилетий. Точно так же не находят у меня сочувствия уважительные реверансы перед «большим стилем» Лени Рифеншталь или советских «классиков», ее собратьев по пропаганде, пригодным лишь на мифологизацию фигуры «вождя» и ни на что другое. Гораздо большее понимание вызывали и до сих пор вызывают «декадентские» музыкальные шлягеры, вроде «Лили Марлен» и «Утомленного солнца» с их меланхолией жертвы, еще о чем-то мечтающей, но в действительности уже давно предназначенной на заклание. Все эти минорные танго и фокстроты 30-х–40-х годов очень много говорят о робкой душе брутальных на вид мужчин, сгинувших в мясорубке войны или превращенных в лагерную пыль, наших отцов.
Неудивительно, что попытки, «потуги» уйти из-под сплющивающей тяжести «большого стиля», а проще говоря – «Кореи», отличали лучшие художественные проявления «оттепельной» поры, будь то бесконечные хуциевские панорамы «города людей» или нехитрый, но задушевный гитарный перебор «арбатского гражданина» Окуджавы.
Что же касается зарубежных фильмов, то их восприятие было более серьезным и открытым. Все мы находились под обаянием романтической «польской школы», простаивали в очередях за билетами на разного рода «недели» – французского кино, британского, шведского. Это было время европейской «новой волны», решавшей, практически, почти те же задачи ухода от идеологической и стилистической нормативности, противопоставлявшей конкретного и переживающего человека жестокому распорядку социальной жизни.
Так, не будучи предметом профессиональной деятельности, но, тем не менее, составляя ее фон, кино постепенно входило в поле моих жизненных интересов.
Что же касается профессии, то какой студент-англист может пройти мимо фигуры «Вильяма нашего, Шекспира»? Естественно, я записался в семинар и даже сочинил что-то вроде концепции о том, что, мол, у Шекспира есть «герои» (Гамлет, Отелло), «злодеи» (Яго, Макбет), но после их взаимного уничтожения на поле сражения остаются более мелкие по масштабу «антагонисты» (Фортинбрас, Октавий), воплощающие в себе не столько ренессансные губительные страсти, сколько расчетливые буржуазные добродетели. Концепция, как говорится, вполне на уровне курсовой работы, да к тому же с легким, хотя и сильно закамуфлированным намеком на современность, что весьма куражило юного автора. Я даже набрался нахальства, чтобы показать рукопись главному в моих глазах шекспироведческому авторитету Л. Е. Пинскому (официальным он никогда и не был, пережив поношения в ходе «космополитической» кампании, после чего попал в лагерь). Работу он прочел, даже пробормотал что-то одобрительное, заключив: «Но у вас нет никакой школы». Правота этих слов поражает меня и сегодня, поскольку, за что бы я в своей жизни ни брался, всегда внутренне ощущал «отсутствие школы», которое, впрочем, иногда довольно успешно ухитрялся скрыть. Увы, это примета всего нашего «оттепельного» поколения, в наследство которому после всевозможных «чисток» досталось очень мало действительно «школообразующих» авторитетов. Сохранялись они в узкоспециальных дисциплинах, чему свидетельство успехи наших лингвистов, но в широкой гуманитарной сфере подняться над средним уровнем смогли лишь единицы.
Но там, где Шекспир, там, разумеется, и театр. И он чудесным образом не замедлил появиться в жизни в виде гастролирующей труппы английского театра «Олд Вик», которая в январе 1961 года привезла три спектакля: шекспировского «Макбета», «Святую Жанну» Б. Шоу и «Как важно быть серьезным» О. Уайльда. Случилось так, что наша преподавательница английского языка рекомендовала трех своих студентов, в том числе и меня, своей приятельнице из «Москонцерта» в качестве переводчиков для гастролей труппы в Москве (в здании филиала МХАТа) и Ленинграде (в помещении Дворца культуры Промкооперации). Мы, зеленые третьекурсники, были, естественно не единственными из тех, кто обслуживал гастроли. Работа наша была черновая, на сцене, в ходе установки декораций и световых репетиций. Здесь-то и состоялось мое профессиональное знакомство с театром. Никогда не забуду запаха кулис, этой смеси из запаха старых тканей, досок, красок на полотняных холстах и пеньки многочисленных канатов. При нас и с нашей помощью монтировались декорации и оформлялась световая партитура спектаклей, когда на каждую мизансцену, на каждый переход актера требовалось последовательное включение комбинации определенно направленных и на определенную мощность настроенных многочисленных прожекторов и подсветок. По ходу дела нам пришлось учить и специальную театральную терминологию, причем учителем был не кто иной, как Вадим Васильевич Шверубович, сын Качалова, постранствовавший с труппой Станиславского по загранице в 1920-е годы именно в качестве заведующего постановочной частью и поэтому прекрасно знавший все тонкости «театрального английского». Барственный, как отец, подтянутый («он был белогвардейским офицером», – шептали за его спиной рабочие), Шверубович появлялся, решал возникавшие лингвистические затруднения и величественно удалялся.
Премьерами труппы были Пол Роджерс и Барбара Джеффорд. Роджерс, игравший Макбета с мрачной романтической страстью, представлял собой классическую английскую школу исполнения Шекспира, достаточно чуждую современному нам отечественному театру «переживания». Его «переживание» заключалось в одушевленной и тщательно проинтонированной декламации энергичных и одновременно цветистых шекспировских стихов. Я до сих пор не могу забыть и иногда пытаюсь воспроизвести его ритмику и интонацию при чтении знаменитого монолога о «шуме и ярости». Более того, я уверен, что именно так и нужно играть Шекспира, а не стараться всячески заставлять зрителя забыть, что перед ним стихотворный текст, как это часто делается на нашей сцене. Красочность шекспировского лексикона – это компенсация скромной сценической площадки его времени, она намеренно риторична, и ее не следует стыдиться и куда-то прятать. Тем не менее, московская пресса сочла английского Макбета «холодным и академичным».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: