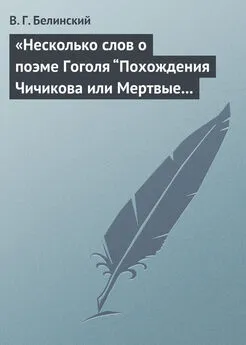Елена Анненкова - Путеводитель по поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души»
- Название:Путеводитель по поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души»
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство Московского университета
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-211-05478-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елена Анненкова - Путеводитель по поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души» краткое содержание
Пособие содержит последовательный анализ текста поэмы по главам, объяснение вышедших из употребления слов и наименований, истолкование авторской позиции, особенностей повествования и стиля, сопоставление первого и второго томов поэмы. Привлекаются также произведения, над которыми Н. В. Гоголь работал одновременно с «Мертвыми душами» — «Выбранные места из переписки с друзьями» и «Авторская исповедь».
Для учителей школ, гимназий и лицеев, старшеклассников, абитуриентов, студентов, преподавателей вузов и всех почитателей русской литературной классики.
Summary E. I. Annenkova. A Guide to N. V. Gogol’s Poem ‘Dead Souls’: a manual. Moscow: Moscow University Press, 2010. — (The School for Thoughtful Reading Series).
The manual contains consecutive analysis of the text of the poem according to chapters, explanation of words, names and titles no longer in circulation, interpretation of the author’s standpoint, peculiarities of narrative and style, contrastive study of the first and the second volumes of the poem. Works at which N. V. Gogol was working simultaneously with ‘Dead Souls’ — ‘Selected Passages from Correspondence with his Friends’ and ‘The Author’s Confession’ — are also brought into the picture.
For teachers of schools, lyceums and gymnasia, students and professors of higher educational establishments, high school pupils, school-leavers taking university entrance exams and all the lovers of Russian literary classics.
Путеводитель по поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Фрак «наваринского пламени» и олицетворяет тот апофеоз телесности, который составлял существо Чичикова. Наваринский — цветообозначение, которое появилось в модных журналах первой половины XIX в. после битвы при Наварине в 1828 г., в которой объединенный русско-англо-французский флот одержал победу над египетско-турецкой эскадрой. В объяснении этого цвета отмечаются расхождения. Его сравнивали и с коричневым, и с серо-мышиным цветом: в журнале «Московский телеграф» в 1828 г. отмечалось, что цвет «наваринского пепла», т. е. серо-мышиный, — самый модный для панталон. Под наваринским могли понимать и цвет сукон высокого качества, который достигался блеском лицевой поверхности ткани и сочетал в себе по крайней мере два оттенка. Словосочетание «наваринского пламени с дымом» в журналах того времени не встречалось, следовательно, Гоголь мог сам изобрести это название. Чичиков особое внимание уделяет цвету, предпочитая сукна цветов «с искрой оливковых или бутылочных», «приближающихся к бруснике». В 1822 г. Э. Эгерманом, работавшим на стекольных заводах Богемии, было изобретено рубиновое стекло. Для того чтобы не добавлять в стекольную массу золото и не увеличивать расходы, стали искать новые красители для получения дешевого цветного стекла и создали литхиалин, позволяющий получать самые разнообразные по цвету стекла, в том числе и брусничные, красно-коричневые, лиловые и т. д. Новые красители активно использовались в России того времени. Так что купленное Чичиковым сукно, скорее всего, имело красноватый оттенок. В 30—40-е годы были популярны адрианопольский красный, темный барканский, мардоре (красно-коричневый с золотыми искрами) цвета и т. д. [101] Кирсанова P. M. Родовая ксандрейка и драдедамовый платок. Костюм — вещь и образ в русской литературе XIX века. М., 1989. С. 154–156.
. Было ли в долгом искании героем нужного цвета стремление к красоте? Мечтание об обустройстве семейной жизни? О завершении бесконечных поездок? Об обретении самого себя? — так или иначе, фрак продемонстрировал тщету всех материальных усилий и обольщений; будучи вывалян в пыли, он ознаменовал полный крах Чичикова. Именно в этот момент жизни, полагает Гоголь, душа человека наиболее открыта для укоряющего и поучающего слова.
Два персонажа, появляющиеся в последней главе, наделены автором способностью найти слова, которые потрясают человека, как бы ни был он греховен. Это откупщик Муразов, который воплощает ту же идею праведного богатства, которая была заявлена в изображении Костанжогло, и князь, генерал-губернатор. Первый предлагает спасение и Хлобуеву, и Чичикову, побуждая их прежде всего задуматься над собой и изменить себя. Хлобуеву он поручает собирать пожертвования на церковь, от Чичикова требует поселиться «в тихом уголке, поближе к церкви и простым, добрым людям» (VII, 113).
Путь возможного преображения плотского, греховного человека обозначен автором как требующий личной готовности к раскаянию и очищению и даже некоторого богатырства. «Да вы, мне кажется, были бы богатырь» (VII, 114), — говорит Муразов Чичикову, оценивая данные тому силу и волю. «Назначенье ваше — быть великим человеком, а вы себя запропастили и погубили» (VII, 112). «Вся природа» Чичикова после этих слов «потряслась и размягчилась… темным чутьем стала слышать, что есть какой-то долг, который нужно исполнить человеку на земле» (VII, 115), однако далее мы видим, что «одностворчатая дверь его нечистого чулана растворилась, вошла чиновная особа — Самосвистов» (там же), предлагающий Чичикову способы обойти закон, и вновь Чичиков поддается искушению, а когда с помощью Муразова оказывается все же освобожден и покидает город, то хотя и заказывает новый фрак, «который был хорош, точь-в-точь как прежний… это был не прежний Чичиков. Это была какая-то развалина прежнего Чичикова» (VII, 123–124). Герой вновь на распутье, но прежней энергии и воли к победе в нем нет, и автору остается надеяться, что проявится иного рода воля, направленная не на материальное благополучие, а на очищение и улучшение самого себя.
В художественном тексте Гоголь пытается приблизиться к постижению тех душевных состояний, которые были предметом внимания авторов духовных сочинений. Но он скорее обозначает их, фиксирует внешнее выражение, не воссоздавая изнутри всю последовательность тех переживаний, которые испытывает человек, когда вся природа «потряслась и размягчилась». В этом, думается, проявляется не только своеобразие повествовательной манеры Гоголя, которой не свойствен тот психологизм, который заявит о себе в прозе Лермонтова, Л. Толстого и др. авторов, но и интуитивное понимание писателем непредсказуемости и невыразимости многих душевных движений, а, кроме того, допущение, что Чичикову не дано аналитически взглянуть на самого себя, что в принципе не закрывает для него путь к духовному преображению. Самое важное, точнее, самое интересное для читателя Гоголь оставляет за текстом, не разрешив, быть может, это важное и для самого себя, создавая в результате ощущение, что второй том «Мертвых душ» — сочинение не только не завершенное, но и незавершимое.
Первый том поэмы заканчивается тем, что Чичиков покидает губернский город. В последней из сохранившихся глав второго тома уезжает генерал-губернатор, потрясенный происшедшими событиями. Чичиков обеспокоен собственной судьбой, князь поражен той «бестолковщиной» и преступлениями, которые «взбаламутили» уже другой губернский город. Вновь ситуация разлада, нестроения жизни, близкая к непоправимому катаклизму.
Примечательно, что автор несколько раз приостанавливает повествование, и именно тогда, когда кажется, что вот-вот будут раскрыты те пути к «высокому и прекрасному», которые, как говорилось в «Выбранных местах…», обязан указать писатель. Творчески используя во втором томе традицию утопической литературы, Гоголь все же не идет по пути жанра утопии. Он не выполняет основных правил дидактической литературы, берущей на себя обязанность отвечать на вопрос: что делать? Во втором томе автор вплотную подводит читателя к этому вопросу, усиливает ожидание ответа и обещает ответ, но каждый раз от него уходит. Проявившееся в 1840-е годы понимание сложности внутренней жизни останавливало перо каждый раз, когда нужно было описать «пути и дороги». Еще в первой главе, как уже отмечалось, стоило только Тентетникову дождаться того момента, как он должен был поступить в обучение к «несравненному Александру Петровичу», так тот умирает. Автор взял на себя раскрытие некоторых основ учебной программы «необыкновенного наставника», но все-таки слово «Вперед!», в котором якобы так нуждались юноши, не прозвучало из уст этого уникального человека. В третьей главе беседа Чичикова с Костанжогло, успевшим изложить исходные принципы своего жизненного кредо, прерывается в тот момент, когда Чичиков пытается узнать, как все-таки можно разбогатеть «в непродолжительное время». «Как поступить, чтобы разбогатеть?» подхватил Костанжогло. «А вот как…». «„Пойдем ужинать“, сказала хозяйка» (VII, 70). И далее, когда Чичиков, уже «нахлебавшись супу и выпивши какого-то отличного питья», возобновляет свой вопрос, мы видим в тексте пропуск и замечание комментаторов о том, что в рукописи недостает одного листа. Был ли он? — правомерен вопрос. Правда, далее Костанжогло все же рассказывает о том, как приобрел богатство, но на самом деле он говорит не о богатстве, что более всего и интересует Чичикова, а о труде, о том, как «веселит» его работа, как оправдан и освящен свыше земледельческий труд. Становится очевидно, что этот путь к «веселию» труда каждому нужно пройти самолично, не копируя чужой опыт, а лишь получая от него духовный толчок.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: