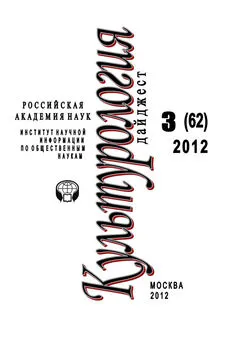Ирина Галинская - Культурология: Дайджест №3/2012
- Название:Культурология: Дайджест №3/2012
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:научных изданий Агентство
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:2012-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ирина Галинская - Культурология: Дайджест №3/2012 краткое содержание
Культурология: Дайджест №3/2012 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Глава пятая посвящена исследованию проблемы «Художник и безобразное в его творчестве». Художники часто не только не избегают безобразного, но уделяют его изображению особое внимание. В связи с этим можно упомянуть множество известных имен – А. Рембо, Ш. Бодлера, И. Босха, Ф. Гойю, Э. Мунка, Н.В. Гоголя, Ф. Кафку, де Сада и др. Автор задается вопросом: откуда к художнику приходят сами образы безобразного? «Из какой реальности, из каких кошмарных снов являются странные образы, например, невиданных гибридов – полулюдей-полукрыс на полотнах И. Босха, паучьих туловищ у сов в “Аду” Д. Боутса, бабочек с кошачьими головами на полотне “Искушение” М. Грюневальда?» (с. 180–181). И второй вопрос: почему вообще художник делает объектом своего внимания и предметом изображения в своем искусстве именно безобразное в жизни? Автор ссылается на книгу Юкио Мисима «Исповедь маски», в которой делается попытка раскрыть эту тайну, заглянуть в глубины загадочной человеческой души. Что заставляет нас стремиться к тому, чего нам на самом деле не хочется? «Порок ли это самой души, из своих бездонных глубин достающей и сам необычный интерес к безобразному, и специфический способ видения, обезображивающий иногда достаточно нейтральную картину реальности? Или же это испорченный вкус, объясняющий склонность выискивать безобразное и любоваться им? Но, возможно, это и особая чувствительность той же души к дисгармониям мира, к тому нарушению порядка, каким является – или в идеале должна быть, т.е. ощущается как должная – красота?» (с. 181). Продолжая строить гипотетический ряд объяснений этого загадочного феномена, автор предполагает, что, возможно, эта склонность художников есть проявление слишком ригористично понятого ими эстетического долга. «Кроме того, конечно, это может быть и вполне трезвая сознательная установка на критику существующего мира, на отрицание недолжного в нем безобразного. Нельзя исключать и намеренного протеста, вплоть до эпатажа общественного мнения, вызова общественному вкусу и приличиям, против несовершенного мира, против недолжного порядка вещей, когда нет иных способов или сил изменить его в лучшую сторону…» (с. 181). И, наконец, почему художник иногда делает на своих полотнах безобразным то, что в действительности таковым не является? Почему он обезображивает действительность? Безобразное «вновь ставит нас перед целым рядом вопросов, ответы на которые не представляются однозначными и требуют привлечения данных и подходов не только эстетики, но и психологии, и психопатологии, и социологии искусства, и когнитивистики, и истории культуры, и мифологии и т.д.» (с. 183).
Безобразное – это то, отражение или присутствие чего мы боимся найти в себе самих. «Нет иной действительности, которая столь много означала бы для нашего внутреннего становления и проявления, особенно для художника, кроме той, что “перемещена” внутрь нас и находится внутри нас… И возможно, человеку надо увидеть безобразное в себе, чтобы знать, чего он должен остерегаться и чем ему грозит забвение человеческих законов, отступление от человеческого в себе. Возможное падение человеческого тем ниже и тем страшнее, чем выше стоит человек в своем развитии, своем осознании себя» (с. 185).
Исследователи творчества часто пишут о демонизме дионисийского начала и даже объединяют оба этих источника. Но автор полагает, что «если дионисийское все же больше творчески-вдохновенное по источнику и проявлению, то демоническое больше мрачное, напрягающее, тревожащее, вносящее раздвоенность…» (с. 189). Автор подчеркивает, что если демонически-дионисийское начало выступает в тех или иных состояниях творческого выражения, влекущих к «альтернативам» – добру и красоте, – то «неким “конститутивным” источником появления образов безобразного выступают и патологии самой личности, и окольные пути ее самореализации и самовыражения, мании, буйные грезы, не сдерживаемые реальностью и здравым смыслом (рассудком), странные прихоти и ответвления чувств и впечатлений; пато-интерес личности к тому, что табуируется во всякой развитой культуре» (с. 190). Человека влечет запретное, ему, как ребенку, иногда интересно подглядеть то, что «не предназначено для взора и вершится независимо от человека» (там же). Безобразное пробивается в образах, опущенных в подсознание, кажущихся изжитыми. Время от времени они прорываются на «поверхность» сознания и сигнализируют о себе. «Художник безжалостно по отношению к себе (а иногда и к своему читателю или зрителю) вытаскивает на свет то, что прежде укрывалось от посторонних глаз и еле осознавалось самим человеком. Теперь это выставляется на всеобщее обозрение, беззастенчиво рассматривается и толкуется» (с. 190). Подсознательное посылает в наш мозг самые разнообразные фантазии, кошмарные образы, мучительные видения. «Это результат действия неосознаваемых психических сил, о которых человек либо не знает, либо забыл, либо не умеет более или менее бесконфликтно связать их проявления со своей сознательной, “дневной” жизнью» (там же). Самые темные желания, запретные помыслы, нереализуемые побуждения, искушения, ускользающие от контроля сознания, вытесненные страхи, самые необычные и причудливые впечатления «в преобразованном виде, в символических формах всплывают как чудовищные создания» (там же). Автор отмечает, что роль воображения в процессах творчества чрезвычайно велика и в положительном, и в отрицательном смысле. «Воображение не только позволяет художнику “увидеть” свое произведение “готовым” и тем самым как бы организовать “руководство” процессом его творческого воплощения, но и становится каналом, по которому к художнику “приходят” воплощенными фантазии его бессознательного, безобразные существа из “нижнего мира”, вампиры, химерические творения, связанные с неуловимым, необъяснимым, невыразимым, которые с помощью воображения выводятся на поверхность» (с. 191). Матрицы, существующие глубоко в бессознательном, прорываются теми или иными комплексами, которые, в свою очередь, отражаются в искусстве в сюжетах или настроениях автора.
Завершая главу пятую, автор подчеркивает, что истинно творческий человек, в какой бы сфере и каким бы образом ни осуществлялись его творческие способности, «адекватно осваивает неоднозначные энергии самоутверждения, вводя их в русло творческой реализации и при необходимости освобождаясь от деструктивно-отклоняющихся тенденций в самоощущении и поведении. Демоны, коварные, полные зловещего смысла, могут гнездиться в каждом, но только “сон разума порождает чудовищ”, приходящих из фантазий и снов… И безобразное, побежденное художником, становится источником особого познания…» (с. 217).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: