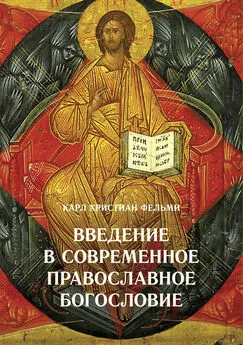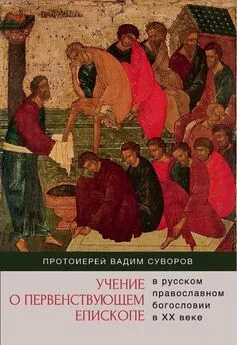Карл Фельми - Введение в современное православное богословие
- Название:Введение в современное православное богословие
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Свято-Филаретовский православно-христианский институт Литагент СФИ
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-891000-119-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Карл Фельми - Введение в современное православное богословие краткое содержание
Книга адресована как преподавателям и студентам духовных заведений, так и широкому кругу читателей, интересующихся православной христианской традицией и наследием крупнейших православных богословов.
Введение в современное православное богословие - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Несмотря на то что для обеих сторон важно понятие опыта, различия в его понимании настолько велики, что в конце концов возникает сомнение относительно использования термина «опыт». Поскольку в православии подчеркивается церковность опыта, этот опыт обязан, в отличие от субъективного, – опосредованно или непосредственно – подчиняться критерию церковности. Для православных, кроме того, опыт – это продолжающийся процесс роста и созревания, вхождения в жизнь Церкви. В пиетизме же – может быть, только в неопиетизме – напротив, превалирует элемент спонтанности, равно как элемент эмоционального, а следовательно и элемент переживания. Это, по-моему, настолько очевидно, что скорее следовало бы говорить не об опыте , а о переживании.
Обращение православного богословия к опыту имело место в духовно-историческом контексте, когда «опыт» был заново открыт также и вне православного богословия, например, в Эрлангенском богословии ( Erlanger Erfahrungstheologie) [23] Наиболее значительная школа ортодоксального лютеранского богословия, свободного от влияний кальвинизма (с центром в Богословском факультете Эрлангенскогоуниверситета). Эрлангенское «опытное богословие» стремилось доказать истинность вероучений, исходя из опыта пакирождения христианина.
. Возможно, это открытие опыта в богословии связано с возросшей ролью естественных наук, которые покоятся на принципе эксперимента и, следовательно, опыта [24] За данное указание я благодарен г-ну д-ру Рексу Рексхойзеру. Ср. также: George Martin. Mystische und religiöse Erfahrung. S. 127 f.
. Этот общий контекст в области истории человеческого духа следует непременно учитывать. Тем не менее бросается в глаза, что как суть дела, так и понятие «опыта» в православном богословии укоренены более глубоко, чем в богословии западном, причем это справедливо не только по отношению к естествоиспытателю о. Павлу Флоренскому и основанной им богословской школе [25] Ivanov Vladimir. Die Lehre von der Heiligen Dreieinigkeit in der russischen Theologie // Philoxenia. Fürth : Flacius, 1986. Bd. II. Begegnung mit der Spiritualität orthodoxer Kirchen / R. Thöle, I. Friedeberg. S. 79—84.
. Думается, причина заключается в том, что православное богословие действительно продолжает богословие отцов раннехристианской Церкви.
Впрочем, у восточных отцов Церкви понятие «опыт» практически не встречается. Но их богословие все же является именно «опытным» богословием, так как находится в постоянной связи с таинствами, прежде всего крещения и евхаристии, а также и с другими чинами, часть из которых позднее будет названа «таинствами», и с аскетической жизнью. Оно точно так же находится в постоянной связи с богослужением вообще, с молитвами и славословием. Оно представляет собой, таким образом, единство «образа молитвы» (lex orandi ) и «образа веры» (lex credendi) [26] Cp.: Federer K. Lex orandi – lex credendi // LThK. 2. völlig neu bearb. Aufl. Freiburg : Herder, 1961. Bd. 6. S. 1001 f.
.
Это единство учения, богословия и литургического опыта нашло свое отражение в древнецерковных евхаристических молитвах, как они постепенно складывались [27] Felmy Karl Christian. «Was unterscheidet diese Nacht von allen anderen Nächten?» : Die Funktion des Einsetzungsberichtes in der urchristlichen Eucharistiefeier nachDidache 9 f und dem Zeugnis Justins // JLH. Kassel: Stauda, 1983. Bd. 27. S. 13-15.
. Оно особенно отчетливо заметно в истории написания и содержании трактата Василия Великого «О Святом Духе», евхаристической молитвы, названной его именем [28] Cp.: Felmy Karl Christian. Die Deutung der Göttlichen Liturgie in der russischen Theologie : Wege und Wandlungen russischer Liturgie-Auslegung. Berlin; New-York : W. de Gruyter, 1984. S. 2.
, а также в формировании древнецерковного чина крещения [29] Cp.: Schulz Hans-Joachim. Ökumenische Glaubenseinheit aus eucharistischer Überlieferung. Paderborn : Bonifacius-Druckerei, 1976. 128 S.
. Это единство обнаруживается и в том, что вопросы богопознания и божественного опыта ставятся и рассматриваются прежде всего в контексте аскетической книжности [30] Ср. в первую очередь: Лосский В. Очерк мистического богословия.
.
В период между VII и IX вв. единство славословия и учения в Восточной Церкви было подчеркнуто еще раз. В это время богослужебный чин кондака – а он восходит к VI в., преимущественно к творчеству Романа Сладкопевца (ск. ок. 560 г.) – был вытеснен жанром канона [31] Ср.: Wellesz Egon. A History of Byzantine Music andHymnography. 2ed., revised and enlarged. Oxford : Clarendon Press, 1961. 476 p.
. Кондаки, конечно, имели догматическую насыщенность, но все же они представляли собой повествовательную поэзию. А в каноне, напротив, превалирует хвалебно-догматическое созерцание, с обильным использованием догматических понятий. Они настолько удачно включены в славословие, что даже такие термины, как «ипостась», «единосущный», «прообраз» и «подобие», оказывается, могут легко распеваться.
Примечательно, что Константинопольский патриарх Иеремия II [32] Вследствие тогдашней персональной и финансовой политики турецкого правительства Иеремию несколько раз сводили с патриаршего престола и за новые выплаты возводили на него вновь. Он был патриархом в 1572—1579, 1580 – 1584 и 1586—1595 гг.
, когда он последовательно отвечал на все статьи Аугсбургского Исповедания веры [33] Так называемое Аугсбургское Исповедание веры было прочитано 23 июня 1530 г. на Рейхстаге в Аугсбурге. Оно состоит из 28 статей по вопросам веры и церковных обычаев и является вплоть до настоящего времени учительной основой Лютеранской Церкви. Ср.: Андреев И. Аугсбургское Исповедание и его апология // Христианство : энцикл. слов.: В 3 т. Т. 1. М. : Большая Российская энциклопедия, 1993. С. 137 сл.
, при рассмотрении ст. XIII, в которой речь идет о таинствах, стал разбирать не седмерицу таинств, как ожидалось, а Божественную литургию и толковать ее. Вот что он счел подобающим откликом на статью Аугсбургского исповедания [34] Καρμίρης ’Ιωάννης. Τά δογματικά και συμβολικά μνημεία της Ορθοδόξου Καθολικής ’Εκκλησίας : 2t. Τ. 1. 2εκδ. Graz: Akademische Druck- u. Verlagsanst., 1968. Σ. 470-476; Wort und Mysterium : Der Briefwechsel über Glauben und Kirche 1573 bis 1581 zwischen den Tübinger Theologen und dem Patriarchat von Konstantinopel / Hrsg, vom Außenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland. Witten : Luther-Verlag, 1958. S. 85—93; cp.: Wendebourg Dorothea. Reformation und Orthodoxie : Der okumenische Briefwechsel zwischen der Leitung der Wurttembergischen Kirche und Patriarch Jeremias II. von Konstantinopel in den Jahren 1573–1581. Gottingen : Vandenhoeck und Ruprecht, 1986. S. 272–304.
. Подобный подход был очень точно назван – хотя и не без критики – мышлением «непосредственно вслед за совершением богослужебного чина» [35] Wendebourg Dorothea. Mysterion und Sakrament: Zu einigen frühen Zeugnissen scholastischer Einflüsse auf die griechische Theologie // Unser ganzes Leben Christus unserm Gott überantworten / Hrsg. P. Hauptmann. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1982. S. 293.
. Дефиниции, что именно понимается под сакраментом , не дается, но о нем предлагаются размышления через описание и представление чина его совершения.
В православном богословии, которое испытало на себе влияние западной схоластики, начавшееся преимущественно в XVII в. [36] Доротея Вендебург (D. Wendebourg) усматривает начало влияния и еще раньше (см. примечание 34).
, дела обстоят иначе. В «схоластическом» богословии «дефиниции» уже действительно присутствуют, и не в смысле древнецерковных «оросов» (οροί, букв.: пределы, границы, переносно: определения). В Древней Церкви – так утверждает Христос Яннарас – догматы не были «теоретическими “принципами”, но обозначали границы (οροί, termini ) [37] Догматические определения соборов называются как раз «оросами».
церковного опыта, благодаря которым добытая жизнью истина оберегалась от искажения еретиками» [38] Γιανναρας X. Ή θεολογία. Σ. 54.
. А в «схоластическом» православном богословии таинства больше не описываются и не отграничиваются от ложных толкований – им даются дефиниции (в современном понимании), т. е. их сводят к формулировкам, позволяющим их усвоить и постичь.
Интервал:
Закладка: