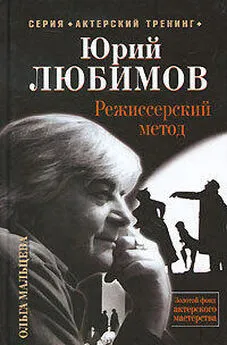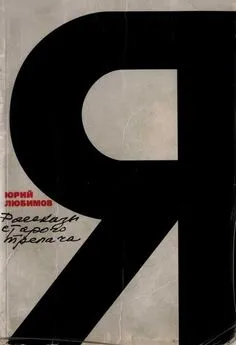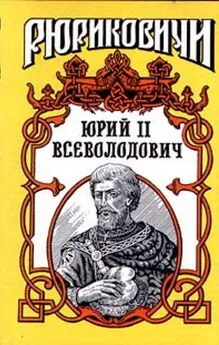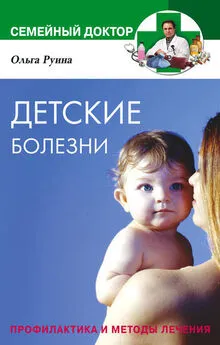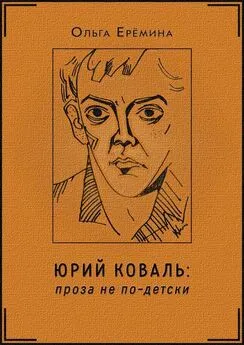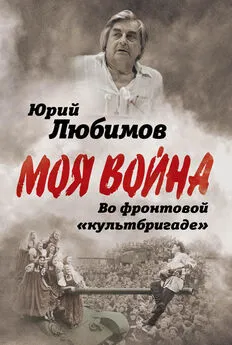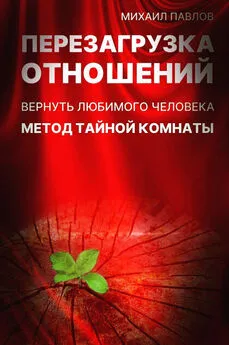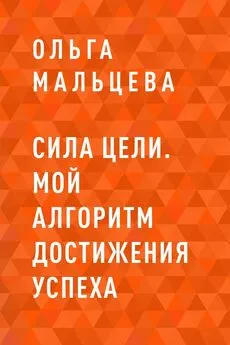Ольга Мальцева - Юрий Любимов. Режиссерский метод
- Название:Юрий Любимов. Режиссерский метод
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Аудиокнига»
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-067080-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ольга Мальцева - Юрий Любимов. Режиссерский метод краткое содержание
2-е издание.
Юрий Любимов. Режиссерский метод - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Я носила часики —
вдребезги хреновые!
Босиком по стеклышкам —
Ой, лады…
В нем намеком возникала индивидуальная трагедия. Хор, продолжая содрогаться, отвечал совершенно бесстрастно:
По белому линолеуму
Кровь,
кровь, —
червонные следы,
червонные следы…
И снова эта на мгновение выделившаяся индивидуальность бесследно поглощалась толпой, сливаясь с ней. Опять перед зрителем была единая безликая нервно-взвинченная масса.
В эпизоде «Тишина» личность оказывалась в центре: ее слушали, ей внимали. И героями этого эпизода становились уже не продукты «атомных распадов», а усталые актеры. То есть эпизод, в котором действовали персонажи, сменялся эпизодом, где действовали актеры, – противопоставление шло и на этом уровне.
Первый эпизод развивался под музыку в стиле рок, во втором – стихи звучали в полной тишине. Представал другой мир, другой мотив, который монтировался с соседним – контрастным ему. Снова переход к эпизоду, где действовали актеры, был связан с переходом к лирическому куску. Эпизод «Тишина» наводил на сопоставление с только что прозвучавшим эпизодом «Рок-н-ролл», но был автономным. В спектакле об антимирах, о человеке и обществе, о разных общественных и личностных мирах происходившее с героями Вознесенского значило не больше и не меньше, чем переживания актеров Любимова.
Часть стихов в спектакле была положена на музыку, в этом случае сценическое воплощение стихотворного образа представляло собой хором или сольно исполненную песню.
С помощью контрастного пластического и звукового решения эпизодов, или соединения эпизодов, где действовали актеры, с эпизодами, в которых действовали персонажи, либо по-разному выраженных эпизодов (песня или стих) или, наконец, при помощи их комбинаций – достигался смысловой контраст, задававший выбор следующих друг за другом стихов.
«Павшие и живые»
Так, в «Павших и живых» режиссер соединял комбинации эпизодов, в которых звучали стихи, с прозаическими новеллами, в которых действовали персонажи, а последние непосредственно монтировались с эпизодами пантомим, где действовали актеры. Исполнение стихов в спектакле было таково, что эпизоды со стихами, по-видимому, можно определить как лирические – в них явно звучало отношение актеров к автору, к содержанию стихотворения, к теме всего спектакля, переживание этой темы актером.
Это входило в замысел режиссера, стремившегося «столкнуть» павших и живых на всех уровнях, в том числе и через отношение современного молодого человека, современного молодого актера к теме павших, к ответственности живых перед мертвыми.
Пантомима в спектакле также звучала лирически. К примеру, пантомима «Это не должно повториться» с ее обобщенным образом злых сил выражала отношение театра к теме спектакля. Таким образом, наряду с драматическими в композицию входили и многочисленные лирические эпизоды.
«Десять дней, которые потрясли мир»
Еще более разнообразный материал монтировался в «Десяти днях, которые потрясли мир». Интересно, что пантомимические эпизоды в этом спектакле, в отличие от пантомимы «Павших и живых», несли в себе не только лирическое, но и эпическое начало. Конкретные образы сеятеля, пахаря, инвалидов в пантомиме «Тяжелая доля» были скорее изобразительными. Они, так же как и более обобщенный образ тюрем в эпизоде «Тюрьмы», помогали создать ту широкую картину российской действительности накануне революции, которую режиссер стремился представить спектаклем в целом. Частью этой эпической картины была и решенная обобщенными средствами пантомима «Кресты» с ее образом раскачивающихся на ветру могильных крестов, символом бесконечных жертв мировой бойни – империалистической войны.

Десять дней, которые потрясли мир. Сцена из спектакля.
Чисто лирический характер имела, пожалуй, лишь пантомима, начинающая спектакль, – «Вечный огонь» – символический памятник жертвам революции.
Большинство эпизодов спектакля, таких, как «Благородное собрание», «Падение 300-летнего дома Романовых», «Очередь за хлебом», «Белая гвардия», «Хаос», «Тени прошлого», «Руки отцов города», «Дипломаты», «Логово контрреволюции», «Окопы», «Митинги», «Последнее заседание Временного правительства», «Декреты», «В столицу за правдой» – представляли собой драматически разработанные сцены. В них действовали многочисленные персонажи – представители всех слоев российского общества.

Десять дней, которые потрясли мир. Начало спектакля перед входом в театр.
Наряду со сценами, где действовали персонажи, в композицию спектакля входили эпизоды, в которых действовали актеры, в частности, пролог и финал с участием всей труппы, выступавшей от собственного лица.
Таким образом, уже в одном из первых программных спектаклей Любимова можно выделить не два, а несколько параллельных рядов, соединенных в единой театральной конструкции. Конечно, и для каждого эпизода, и для целого спектакля не безразлично, на каком языке выражался всякий раз смысл эпизода. Но что существеннее: композиция спектакля «Десять дней, которые потрясли мир» соединяла между собой драматические, лирические и эпические по содержанию фрагменты и ряды фрагментов. Более того, эти свойства были особенно отчетливо видны именно в композиции, в монтаже, в сочетании с другими фрагментами иного рода.
Разнородность частей композиции
Разнообразны части спектакля и в пространственно-временной определенности.
В «Пугачеве» эпизоды поэмы чередовались со сценами трех мужиков и со сценами плакальщиц. Образ «троицы» развивался преимущественно во времени. Не только потому, что он оставался пластически неизменным, но и по той причине, что развитие образа в значительной степени определялось движением песни, причем в нефабульном времени. Образ плакальщиц был развернут в пространстве и неизменен во времени. И пространство это также было не тем, в котором двигалась фабула.

Десять дней, которые потрясли мир. Сцена из спектакля.
Монтаж пространственно-временных эпизодов с чисто пространственными был применен режиссером и в «Матери»: фабульные эпизоды развивались в пространстве и во времени, а сцены «Кадриль», «Стена», «Дубинушка» были решены чисто пластически. Последние представляли собой метафорические образы, и режиссер сознательно соединял их с неметафорическими фабульными эпизодами.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: