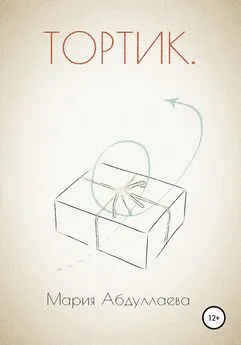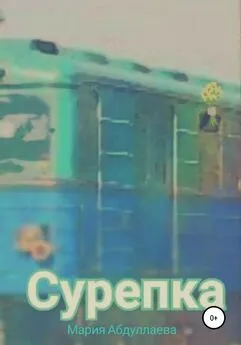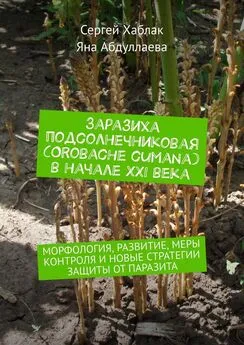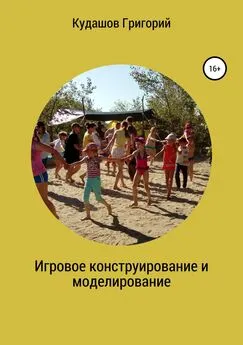Зара Абдуллаева - Постдок-2: Игровое/неигровое
- Название:Постдок-2: Игровое/неигровое
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:9785444816417
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Зара Абдуллаева - Постдок-2: Игровое/неигровое краткое содержание
Постдок-2: Игровое/неигровое - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Рабочий возвращается в цех и просит продолжать репетицию. Следующая сцена – речь Мити на суде, фрагмент текста о том, что он невиновен в смерти отца. Актер в роли Мити, отыгравший свою сцену, сомневается в подлинности «настоящей» трагедии, случившейся на заводе: «Если б у меня умер сын, – говорит он партнеру, – я бы не смотрел эту пьесу».
Актриса в роли Грушеньки выходит покурить во двор и случайно становится свидетельницей сцены рабочего с женой. «Ты пьяный!» – «Они играют для меня».
Рабочий наблюдает следующий фрагмент репетиции – сцену Снегирева после смерти Илюшечки и монолог о том, что «Бога нет». Рабочий в испарине, ему надо прийти в себя. Эпизод в душевой, где актер, играющий Митю, вступает с ним в диалог, провоцируя внесценическое развитие действия. «У вас умер ребенок?» – «Да». – «Если б у меня умер ребенок, я не смотрел бы на клоунов из Праги».
Рабочий возвращается в цех. Застает финал сцены, в которой Алеша сообщает Ивану, что Смердяков повесился.
Актер, игравший Снегирева, подает – после окончания репетиций (сцена объявления приговора Дмитрию и его речи о том, что он не убивал отца) – актерам и зрителям, заводским рабочим, водку. Кажется, что таков и финал спектакля. «В зале» готовятся отметить завершение прогона. Но вдруг актер в роли Алеши произносит монолог об Илюшечке Снегиреве. Еще один финал спектакля кажется импровизацией. Празднование окончания репетиций превращается в поминки по литературному герою и по реальному, то есть кинематографическому, и внесценическому.
«За сценой» раздается выстрел. Актеры выходят с завода. На земле – застрелившийся рабочий. Актеры удаляются по дороге. Самого спектакля на фестивале «Ближе к жизни» и в этом кинопространстве, предъявившем непредвиденный поворот событий, возможно, не будет. Жизнь или, можно сказать, парадокументальный сюжет внесли свои коррективы.
Зеленка строит фильм, соблюдая классическое развитие драматургии. С одной стороны, он рифмует два драматических события: романное и внесценическое, предлагая вроде бы утешающую (для протагониста «реальной» трагедии) иллюзию зрелища. С другой стороны, он продлевает жизнь рабочего ровно настолько, сколько будет длиться игра (на репетициях спектакля «Карамазовы»). Так в чеховской «Чайке» закончилась партия (в лото) – прекратилась жизнь (застрелился за сценой Треплев). Смерть (самоубийство) рабочего за кадром обнаружится актерами только после прогона спектакля.
Размывание границ между «сценой и залом» создает подвижную экранную реальность этих «Карамазовых». Реальность кинематографического пространства, в котором игровые площадки сопряжены с реальным пространством завода, купленного индийским магнатом, с потухшими или все еще действующими металлургическими цехами, где в 80‐е (сообщает рабочий актеру, играющему Ивана Карамазова) выступал Лех Валенса.
Подобно тому как исторический и документальный «спектакль» («мы пережили немцев, русских, переживем и индийцев», – комментирует постсоциалистическую реальность польский рабочий) резонирует тут личной трагедии этого рабочего, другие рабочие забредают в репетиционный цех подивиться накаленным страстям артистов в ролях героев Достоевского.
«Установив дистанцию между персонажами и актерами, Зеленка актуализировал проблематику романа в жанре документальной драмы: неприспособленность фабричных декораций, современный облик чешских актеров, играющих безудержных русских героев романа ‹…› перепроживаются в этом фильме сквозь частную историю заурядного человека. И – в щемящих эпизодах. На улице, например, когда актриса, игравшая Грушеньку, делает вид, что не видит, как рабочий после известия о смерти сына обнимает обезумевшую жену. Или когда одна из актрис случайно находит в ящике рабочего, потерявшего сына, фотографии его с мальчиком, а рядом – патроны. Документальная фактура „Карамазовых“ рождается в диалоге с романом. И на его полях – во время прерванных репетиций спектакля. „Опечатки“ кинематографической реальности становятся драматургическим эквивалентом реальности сценической, лишенной в режиссуре Зеленки примет формального театрального эксперимента, зато радикализируются в концептуальном эпилоге фильма ‹…› Участников эпизода – актеров, режиссера спектакля и зрителей – объединяет трапеза в зале. Блины и водка, упомянутые в монологе Алеши, „превращаются“ в хлеб и вино у чешских артистов и польских хозяев фестиваля ‹…› Отрешенность камеры приглушает торжество евхаристии» [26].
Зеленка, автор игровых и документальных фильмов, решился на эксперимент, в котором реализовал свои (и Достоевского) диалогические интересы. Документальным материалом этого фильма стали съемки театральных репетиций, сохранившие на пленке (на память) следы знаменитого чешского спектакля, идущего и по сей день. А игровым – внесценическая история безымянного рабочего и завода, отчасти функционирующего, отчасти ставшего временной площадкой для модных фестивалей.
Схлестнув внесценические эпизоды (с участием актеров в ролях актеров и реальных рабочих завода) с реализмом театральных репетиций, Зеленка задокументировал пограничное пространство, в котором безусловно только движение из одной условности в другую. И – наоборот.
Так, Зеленка и Херманис – каждый по-своему – засвидетельствовали исторический и художественный промежуток: один – между театром, кино и историей польского завода; другой – между монологами актеров и текстом интервью, которые эти актеры записали у своих прототипов.
После травмы
Важно не то, что они мне показывают, а то, что они скрывают от меня, в особенности то, что они не подозревают того, кто в них.
Робер БрессонКороткометражный фильм Бакура Бакурадзе (вместе с Дмитрием Мамулия) именовался «Москва». «Шультес» – двухчасовой его дебют – назван фамилией главного героя, проживающего в Москве и постоянно присутствующего в кадре. Очевидно, что человек в городе – центральный метакинематографический – мотив, интересующий режиссера, которого по недоразумению записывают в парадокументалисты, хотя он работает в промежуточном или пограничном пространстве (и времени действия его фильмов).
В первом фильме таджикские гастарбайтеры, братья с матерью, стерегущей в общаге семейный очаг, маялись в равнодушной столице, униженные неуплатой за труд на стройке. Их свободное время поглощал телевизор – доступное «окно в мир», ограниченный работой, едой, сном и поездками в транспорте. В том «окне» пульсировала жизнь, мелькали красивые витрины и такие же, как они, приезжие, примиряющие одних бедных с другими – с «Рокко и его братьями».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: