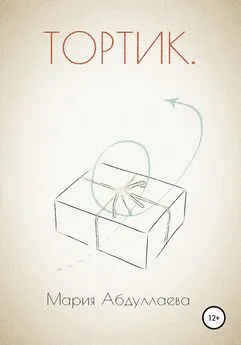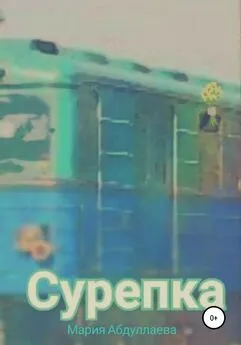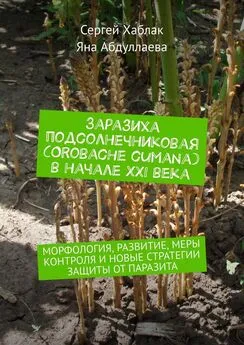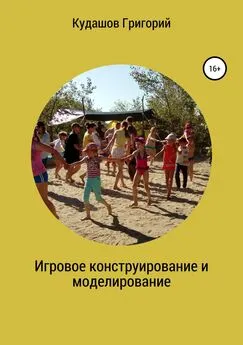Зара Абдуллаева - Постдок-2: Игровое/неигровое
- Название:Постдок-2: Игровое/неигровое
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:9785444816417
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Зара Абдуллаева - Постдок-2: Игровое/неигровое краткое содержание
Постдок-2: Игровое/неигровое - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Есть от чего постоянно быть на пороге обморока, читая (переписывая) доносы на деда (при этом на похороны своего отца в Вену информатора не пустили), на тетку, отправленную в лагерь для интернированных.
Теперь Эстерхази иначе читает и корректуру «Небесной гармонии», читает не как «роман», а «будто семейные мемуары» (с. 29), сопротивляясь тайному знанию «писателя-реалиста», но не забывая помечать «новый круг обязанностей» такого рода писателей: «слезные места». А при этом – в отличие от себя прежнего и других прихожан архива, думавших найти здесь, в своем прошлом, «успокоение», – погружается в настоящее, чреватое неизвестным будущим, растравляет раны, которые затянуться не смогут.
Читая донесения, Эстерхази понимает, что отец писал из дома, что мальчик Петер прикасался к этой бумаге, на которой следы его пальцев. Так возникает тема сообщничества всего общества (от мала до велика).
Теперь его волнуют, точнее терзают, не границы реального/вымышленного, «как в романе», но решение: что есть реальность. Новый для состоявшегося писателя вопрос.
Он, Петер Эстерхази, признанный эстет, испытывает боль от казенных фраз доносов, написанных отцом – безупречным переводчиком. Грубая реальность отпечатывается на страницах «Исправленного издания» в самом буквальном смысле, свидетельствуя – по ходу «дела» – и о неизбежном стилистическом одичании потомка аристократического рода.
«Да научись же ты писать по-венгерски!» (с. 35) – выкрикивает эстет, понимая, что это «смешно, учитывая, о чем идет речь». Тем не менее.
Отказавшись от ксерокопии документов и выбрав собственноручное переписывание доносов отца, Эстерхази вживляет в себя новый опыт, инфицируя его реальностью, о которой он не подозревал. А она если для чего-то и создана, то «не для описания, а для употребления» (с. 36).
Романный персонаж (из «Небесной гармонии») перевоплощается сначала (в документах) в реальный и непредставимый, но – уже в постдокументальном романе – в сюр(сверх)реальный, то есть невообразимый, в котором, однако, ничего нет фиктивного.
«Я все воспринимаю как форму. Только формой на этот раз я избрал, вынужден был избрать (гражданскую) искренность, и, как следствие, реальностью считаю так называемую реальность (а не язык) и буду ей верен ‹…›» (с. 58). А это (в том числе) означает, что не пройдет («не проходит») ни идея самооправдания информаторов, ни «тема „как я разлагал органы изнутри“» (с. 59). Мотивы, могущие объяснить «падение» отца, не срабатывают; они не связаны ни с опасностью для жизни, ни с необходимостью выживать. «Он не был обязан становиться агентом. Ему нет оправданий. Оправдывать его я не собираюсь. Мне это было бы неприятно» (с. 78).
Эстерхази действует с единственной целью: «против забвения» (с. 61). И – против самообмана. Эта история (его отца) свидетельствует о том, «что страну невозможно разделить на чинивших несправедливость и несчастных страдальцев. Это большой и живучий национальный самообман» [10](с. 66).
Семейная история, даже «достойная» (как в романе «Небесная гармония»), неотделима от истории страны, включая гэбэ. Это новое понимание, отвращая от отца, сближает с ним еще небывалыми душераздирающими узами. Сын протягивает руку отцу, подставляет плечо, не в состоянии бросить «на произвол судьбы» (с. 71). Эту связь Эстерхази доводит до нестерпимой ясности. Она же ведет не только к обморочному состоянию писателя, которое порой сменяется тупым безразличием, но к его внеэстетической практике: к работе Эстерхази над собой, а не только над комментарием документов или дневником.
Фундамент постдокументального романа – этика взгляда.
«Господи, как было бы хорошо , если все это я просто выдумал бы. В смысле поэтики все в порядке: non fiction в качестве fiction и проч. Пусть все это будет плодом (гениальной) фантазии. Смелой идеей. Правда, с нравственной точки зрения идеей сомнительной – но за все ведь надо платить» (с. 82). И платить отчаянием.
Радикальность «Исправленного издания» не в том, разумеется, что non fiction фантастичнее fiction, но в ином отношении к non fiction, требующем пересмотра всей картины мира; перемены персональной и писательской участи.
Внутренней необходимостью этой работы с документом и над собой становится невыносимая любовь к отцу. Поэтому «Исправленное издание» – роман о любви, фантастический в своем будничном реализме.
Образ отца в двух романах претерпевает изменения. Герой с трудным достоинством в «Небесной гармонии» превращается в свой недостойный прототип, а прототип – в освобожденный от «пустых фантазий» персонаж (или «казус» – «был отцом, а стал казусом» (с. 79)). «Папочка, дорогой, я уже не способен смотреть на тебя как на реально существовавшего человека. Ты как будто явился ко мне из романа, из дрянного (дерьмового)» (с. 94).
Эстерхази переворачивает бинокль: «Небесную гармонию» начинает воспринимать «как подлинную реальность» (с. 95), удовлетворяя свое наивное читательское «я» («‹…› эх, плакало наше доброе постмодернистское имя!» (с. 95)). И находя в нем утешение, причем столь же реальное, как в трагической безутешности «Исправленного издания», объятого страхом его автора, что он (после своего «Освенцима») не сможет написать ни строчки.
Писать по-прежнему, как в эпоху неведения, но и по-новому, то есть с мотивированным (документально подтвержденным) осуждением или прощением жертв и предателей, уже невозможно. Но если «исправить» задачу, если «не писать, а внимать. Если смогу внимать, то смогу и писать» (с. 100). Такова точка отсчета в этом дневниковом отчете.
Внимать – значит знать, что «все было хуже, гораздо хуже ‹…› все было труднее, драматичнее, чем я об этом рассказывал» (с. 102), – признается Эстерхази австрийским телевизионщикам. Но они не поняли глубины ужаса, утаенного от них.
Внимать – значит вменять общую вину и ответственность. «Компромисс с властью после 1956 года заключили не отдельные личности, а общество в целом, и только как следствие этого – отдельные личности. Кто-то в меньшей степени, кто-то в большей. Но все. Кто-то, может быть, заключил нулевой компромисс, но все-таки заключил» (с. 195).
До «Исправленного издания» Эстерхази казалось, что он – «в высшей степени суверенная личность» (с. 105), поскольку избежал соглашательства с режимом, но и с ума не сошел, не спился, не покончил с собой. «На самом же деле мне просто везло. Я не видел реальность» (с. 105). Внимать – значит видеть, а точнее, умирать (от стыда, от страха, компромиссов), чтобы смочь о настоящем поражении написать. «О глубине предательства мог бы рассказать только сам предатель, но он этого сделать не может» (с. 105). Переписывая доносы отца, Эстерхази получает, как мертвый, способность свидетельствовать, а не «писать». Но в таком свидетельском отчете способности Эстерхази-писателя «просто ‹…› неуместны!» (с. 110).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: