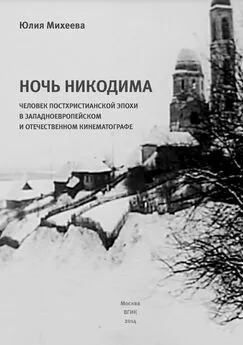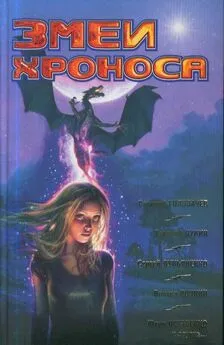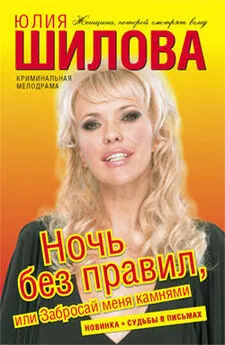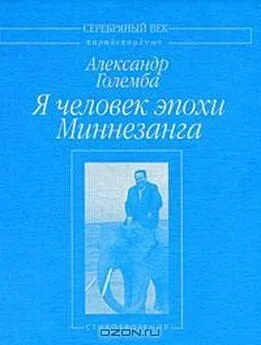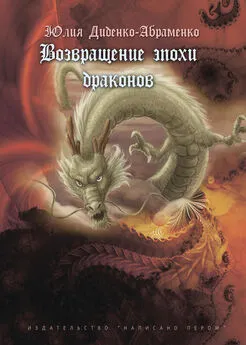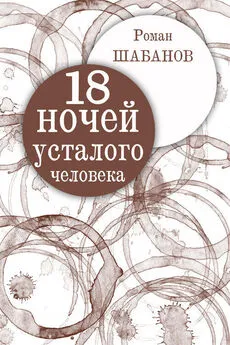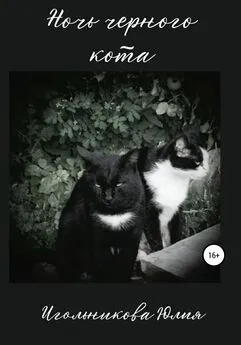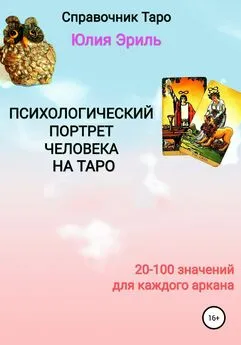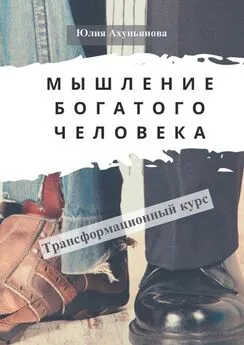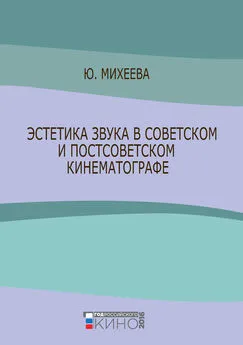Юлия Михеева - Ночь Никодима: человек постхристианской эпохи в западноевропейском и отечественном кинематографе
- Название:Ночь Никодима: человек постхристианской эпохи в западноевропейском и отечественном кинематографе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-87149-159-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юлия Михеева - Ночь Никодима: человек постхристианской эпохи в западноевропейском и отечественном кинематографе краткое содержание
Ночь Никодима: человек постхристианской эпохи в западноевропейском и отечественном кинематографе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Признаем, «ибо очевидно»: христианская идея продолжает бытийствовать не только в историческом и культурном контекстах. Она продолжает свое существование в экзистенциальном аспекте как живая потребность для все еще очень многих людей. Как выразился Поль Рикёр, радикальный вызов Ницше вынуждает прояснить, «как далеко я могу идти в этом направлении, чтобы оставаться христианином. Фраза «религиозное значение атеизма» не лишена смысла, она говорит о том, что атеизм, как бы он ни отвергал и ни громил религию, не теряет своего значения, что он расчищает место для чего-то нового, то есть для веры, которую по большому счету можно было бы назвать пост-религиозной верой, верой пост-религиозной эпохи» [12] Рикер П. Герменевтика и психоанализ. Религия и вера. М.: Искусство, 1996. С. 175.
.
Возникает вопрос: как возможно христианское (бытийно структурированное) сознание в постхристианскую эпоху «конца метафизики» и идейного плюрализма? Как возможно, на чем основывается существование веры как живого понятия не только для «духовных анахоретов», но и для множества «активных пользователей» мирового ( мирского ) пространства? И возможно ли однозначно утверждать: «мы говорим «христианство», подразумеваем «вера», или: «мы говорим «вера», подразумеваем «религия»?
Человек XXI века не может удовлетвориться ответом-проповедью, пресекающим рационально-критическое (свободное) мышление.
Во многом на этот вопрос отвечает искусство как художественно преломленное пространство, отражающее и осмысливающее реальность своего времени и состояния в нем человека. Живое христианство новейшего времени, находящее отклик в сердцах, прорастает в подлинном ведении (проживании) трагической реальности XX века, в понимании и признании ( со-чувствовании ) трагического состояния человека , – и эти «ростки» мы находим в творчестве выдающихся художников-мыслителей XX века.
Однако каждое из вышеупомянутых понятий – «реальность», «трагическое», «человек» – требует контекстуального определения и анализа, чему и посвящен дальнейший текст.
И все же: почему материалом для выделения и анализа этих понятий выбраны именно произведения кинематографа? Ответ, как нам представляется, вполне обоснован: именно (и только) кинематографическое произведение в силу своей художественной специфики не только позволяет, но принуждает к актуальному синэстетическому (в идеальном случае – экзистенциальному) переживанию события. Кинопроизведение предоставляет уникальную возможность проживания, вживания даже в отдаленное по времени событие; оно дает возможность опыта пребывания в предельных состояниях сознания, – опыта, недоступного сегодняшнему человеку в его мирной обыденности, более того – отвергаемого им, как нечто, что может нарушить его психическое благополучие. Те произведения, о которых пойдет речь, – это не только, и даже не столько искусство, сколько открытие подлинной реальности XX века и откровение о человеке в столкновении с этой реальностью.
В отечественном кино проблема человека постхристианского времени (как не всегда продекларированная, но осознанная автором, а нередко болезненно-интимная для него тема) нашла выражение в немногочисленных, но очень ярких произведениях [13] Целостная картина отражения христианских мотивов в российском киноискусстве представлена в издании «Христианский кинословарь. 1909–1999». Автор-составитель В. Семерчук. М.: Госфильмофонд, 2000; представление о многообразии христианских мотивов не только в российском, но и зарубежном кинематографе можно получить из справочного издания «Religion im Film. Lexikon mit Kurzkritiken und Stichworten zu 1200 Kinofilmen». Koeln: KIM, 1993. В данной работе интерес автора сводится к рассмотрению процессов христианизированного самосознания человека XX века, отраженных в киноискусстве.
. По силе художественного высказывания эти киноработы не имеют аналогов в мировом кинематографе не только благодаря величине таланта их создателей, но и в силу уникальности исторического опыта нашей страны на протяжении всего XX века, который каждый из этих художников пропустил через свою душу.
Как уже было упомянуто, в основном речь будет идти о послевоенном кинематографе, в котором контекстуально высвечивается и сущность понятия «постхристианство», и принципиальная разница в сознании русского и западноевропейского художника, высказывающихся по проблеме современного положения христианства и человека. Если начало эпохи постхристианства в философской мысли можно полагать в философии Ницше, то в киноискусстве она началась – со всей поражающей очевидностью – с концлагерной кинохроники, констатировавшей крах прежней культуры, «ставшей невозможной после Аушвица», по словам Теодора Адорно. В дальнейшем, в киноискусстве послевоенного времени, в литературе и экзистенциалистской философии того же периода происходит внутреннее – сущностное – соединение интеллектуального и художественного и, главное, опытного осмысления трагедии XX века.
Смысл II и III глав данного текста – в прояснении положения современного человека в отношении к христианству и к самому себе; в уяснении возможностей дальнейшего бытования христианства как живой религии – через анализ кинопроизведений как области наиболее (рецептивно) впечатляющего отражения в искусстве духа времени, стремительно меняющегося с каждым послевоенным десятилетием.
Методологическим основанием дальнейшего анализа художественных текстов является (в основном) категориальная система философии экзистенциализма как учения, наиболее приближенного к проблеме взаимоотношения человека и трансценденции в XX веке, но в то же время не связанного внутренними (самоограничениями конфессиональной принадлежности, что важно при анализе искусства, свободного в своей сущности. Автором были использованы и некоторые аспекты философской герменевтики, касающиеся понимания и интерпретации (создания теоретической модели) текста. Выбор кинофильмов для анализа обусловлен наличием в них наиболее ярких проявлений новых состояний сознания человека XX века, вовлеченного в проблему богоискательства и богопознания.
I. Обнажение реальности
1. Смерть как обнаружение бытия
Любая религия исторически – в своем первоначальном ритуализированном проявлении – начинается с культа мертвых, с культа смерти – а по сути, с культа бессмертия , желания продлить физическое и духовное существование человека. Человек хоронит своего умершего собрата в осознании особого значения этого события и для себя тоже. Человек возвращается на дорогие ему могилы, чтобы говорить с ушедшими как с живыми. Известный религиовед Мирча Элиаде писал о том, что одна и та же схема – «страдание – смерть – воскресение» обнаруживается во множестве мистерий, обрядов, ритуалов, церемоний и т. п. у всех населяющих нашу землю народов – начиная с первобытных обществ. Уже в те далекие времена человек стремился победить смерть, превратив ее в переход'. «Смерть начинает восприниматься как высшее посвящение, как начало нового духовного существования. Более того, зарождение, смерть и воскресение (возрождение) понимались как три момента одного таинства…» [14] Элиаде М. Священное и мирское. М.: МГУ, 1994. С. 122.
.
Интервал:
Закладка: