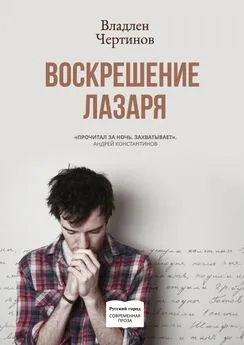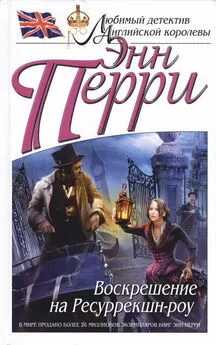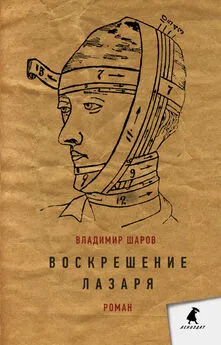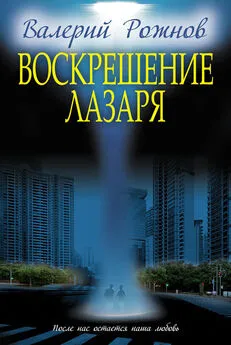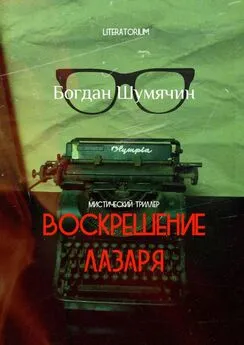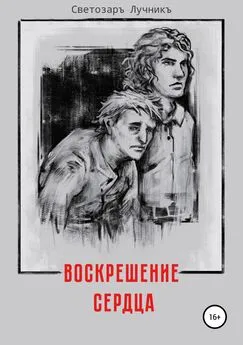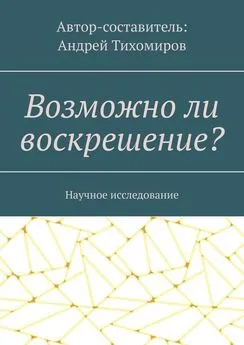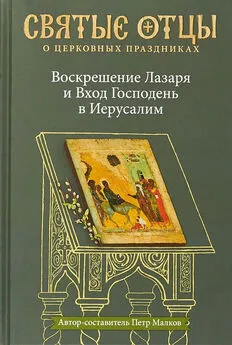Владлен Чертинов - Воскрешение Лазаря
- Название:Воскрешение Лазаря
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владлен Чертинов - Воскрешение Лазаря краткое содержание
Воскрешение Лазаря - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
«…Богатырь не умирал в казаке, и наши древние богатырские песни в том виде, в каком они дошли до нас, суть песни казацкие о казаках. Знакомый с этими песнями знает, что самое видное место между богатырями занимает Илья Муромец; он обыкновенно называется старым казаком и прямо донским казаком, атаманом донских казаков: „Помутился весь тихий Дон, помешался весь казацкий круг; что не стало у них атамана, что старого казака Ильи Муромца“. Разбойники, испуганные его силою просят его, чтоб взял их к себе в товарищи, в донские казачонки» — писал известный историк Сергей Соловьев.
Вторая версия появления казачества — черкесская. Ее выдвинул Василий Татищев. Черкесы, спустившиеся с гор в XIV веке по предложению одного из татарских баскаков, служить в их армии, поселились в княжестве Курском. Но служить черкесам не понравилось и они ушли на реку Днепр, где основали город Черкассы. Позже на Дону они основали еще один город — Черкасск, ставший впоследствии столицей донского казачества. Можно заметить, схожесть названий: черкесы — Черкассы — Черкасск. Причем похожи два города были не только названиями. Располагались они на островах на реке, что было обусловлено естественной водной защитой. Казаки, обосновавшиеся на Днепре стали называться запорожским, а обосновавшиеся на Дону — донскими. Но и у тех, и у других был общий образ жизни.
Третья версия — татарская. Одного из первых известных атаманов звали Сары Озман. Имя явно татарское. Казачий историк 18 века Александр Ригельман пишет, что казаки «платье носят почти совсем татарское» И даже женщины, «притом все без изъятия ходят в портках, а по их — в штанах» — то есть на манер восточных женщин. Устройство домов у казаков тоже было татарским, казаки подобно степным кочевникам делили курень на женскую и мужскую часть. В языке у них так же как и в татарском не было среднего рода. Сохранились грамоты московских митрополитов адресованные «баскакам и сотникам и всем христианам Червленого Яру». Это место локализуется в районе реке Хопер. Некоторые историки считают, что Червленый Яр был автономной пограничной территорией в составе Золотой Орды. Там жили как православные татары, так и славянские общины. У них не было ни феодалов, ни крепостного права. Все вопросы они решали на общем совете — кругу. Этот союз общин считается предшественником будущего казачества. Надо заметить, что в то время татарами считались все кочевые племена, присоединившиеся или подчинившиеся Орде. Большинство же этих племен, кочевавших в диком поле, в районе реки Дон, были половецкого происхождения.
Но, скорее всего, ни одну из этих трех версий нельзя считать правильной. Вероятно все три несут в себе зерно истины. Казачество — это огромный «плавильный котел», в котором смешивались разные нации.
Особенный уклад жизни
Вольные казаки очень долго не занимались землепашеством. Это занятие считалось презираемым, недостойным казака, а кроме того в степи выращивать что-то было опасно — в любой момент могли напасть татары и уничтожить посевы.
Казаки охотились, ловили рыбу, промышляли грабежами. Свои набеги они делали на конях или на лодках. Казаки считались хорошими моряками. Лодки у них были небольшие. Но на них они ловко справлялись с торговыми кораблями. На дело выходили в ночь или в туман. Захватив купеческий корабль, брали только золото, серебро и дорогие ткани, остальное просто выкидывали. После дела, если их начинали преследовать, топили лодки и награбленное около берега, запоминали место и убегали в степь, а потом, когда все стихало, возвращались и забирали добычу.
В этой любви к морским походам у казаков можно обнаружить схожесть с новгородцами. Возможно, это объясняется тем, что когда Москва захватила Новгород, часть его жителей бежала на Дон. У казаков, как и новгородцев, все важные решения принимали на общем собрании. В Новгороде оно называлось вече. На Дону — круг. На кругу выбирали атаманов и даже священников. Голосовали за то или иное решение подкидыванием шапок вверх.
Очень необычно казаки обходились с женщинами. Поначалу у них вообще не было жен, только пленницы, которых они привозили из походов и жили с ними. Когда женщина казаку надоедала, он ходил с ней по городку и спрашивал у других кому она нужна. Вот как описывает это историк Ригельман: «Если кому жена была уже немила и неугодна или ненадобна ради каких-нибудь причин, оных менять, продавать и даром отдавать мог, водя по улицам и вкруг крича: Кому люба, кому надобна? Она мне гожа была, работяща и домовита. Бери, кому надобна! И если выищется кто оную взять, договаривались ценою или какой меною, по случаю ж и за попойку, отпустя ее из рук, отдавали. Когда же взять жены никто не выискался, то и так на волю отпускали». Институт церковного брака на Дону вообще появился принудительно в 18 веке, после подавления Булавинского восстания.
Женщины выполняли всю работу по дому. Вот какими увидел взаимоотношения терских казаков с женщинами Лев Толстой: «Казак большую часть времени проводит на кордонах, в походах, на охоте или рыбной ловле. Он почти никогда не работает дома. Пребывание его в станице есть исключение из правила, и тогда он гуляет… На женщину казак смотрит как на орудие своего благосостояния; девке только позволяет гулять, бабу же заставляет с молодости и до глубокой старости работать для себя и смотрит на женщину с восточным требованием покорности и труда. Вследствие такого взгляда женщина, усиленно развиваясь физически и нравственно, хотя и покоряясь наружно, получает, как вообще на Востоке, без сравнения большее, чем на Западе, влияние и вес в домашнем быту. Казак, который при посторонних считает неприличным ласково или праздно говорить с своей бабой, невольно чувствует ее превосходство, оставаясь с ней с глазу на глаз. Весь дом, все имущество, все хозяйство приобретено ею и держится только ее трудами и заботами. Хотя он и твердо убежден, что труд постыден для казака и приличен только работнику-ногайцу и женщине, он смутно чувствует, что все, чем он пользуется и называет своим, есть произведение этого труда и что во власти женщины, матери или жены, которую он считает своей холопкой, лишить его всего, чем он пользуется. Кроме того, постоянный мужской, тяжелый труд и заботы, переданные ей на руки, дали особенно самостоятельный, мужественный характер гребенской женщине и поразительно развили в ней физическую силу, здравый смысл, решительность и стойкость характера. Женщины большею частию и сильнее, и умнее, и развитее, и красивее казаков.»
Самих же казаков историк Ригельман описывает так: «Они почти все смуглого и румяного лица, волосом черные и черно-русые, острого взгляда, смелы, хитры, остроумны, храбры, горды, самолюбивы, пронырливы и насмешливы».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: