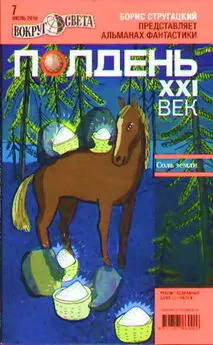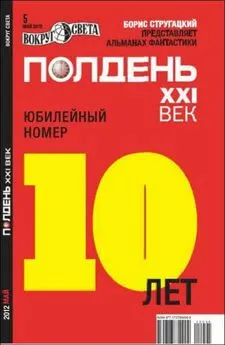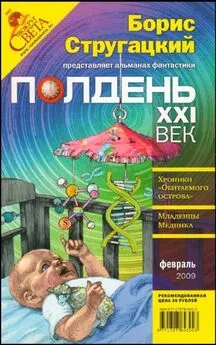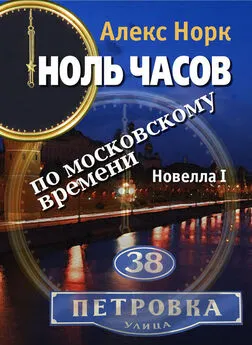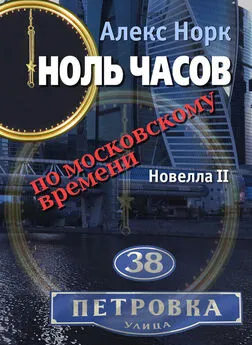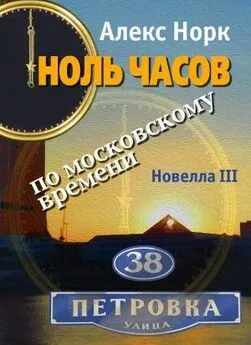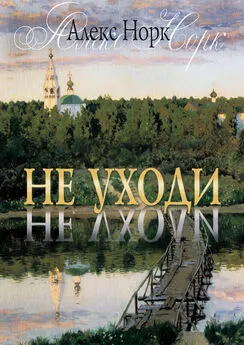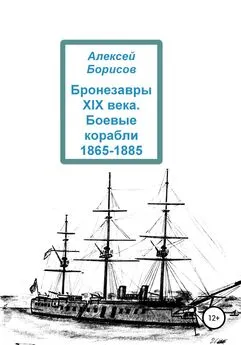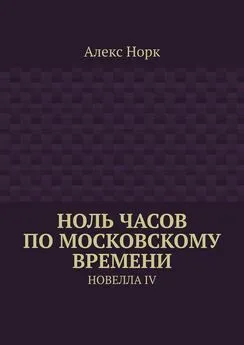Алекс Норк - Не уходи. XIX век: детективные новеллы и малоизвестные исторические детали
- Название:Не уходи. XIX век: детективные новеллы и малоизвестные исторические детали
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2012
- Город:М.
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алекс Норк - Не уходи. XIX век: детективные новеллы и малоизвестные исторические детали краткое содержание
…
Не уходи. XIX век: детективные новеллы и малоизвестные исторические детали - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Минут пять я ехал без всяких мыслей, не желая ощущать себя в тупике.
— Прибыли, барин!
О, здесь за углом жилище-студия моего товарища.
Я поспешил подняться на второй этаж и дернул у двери за шнур колокольчика.
Подождал...
Еще раз, и сильнее подергал.
Подействовало, заслышались шаркающие шаги и голос глухой: «иду-у».
Вид хозяина сразу обо всем мне сказал.
— Ты, Сережа... ой, заходи, как ты, однако, кстати.
— Похоже больше, ты нуждаешься в продолжении сна.
— В рюмке водки я нуждаюсь. А лучше — в двух.
Мы вошли в большую комнату с неубранным диваном, на котором почивал хозяин, у стены еще стоял небольшой круглый стол со стульями, к нему мы и направились, остальное пространство было занято «художественным беспорядком», который не стану описывать, но именно тем рабочим беспорядком художника, коего не было и следов там на мансарде.
Хозяин достиг стола, хлопнулся на стул и потянулся к графину...
— Ой, брат, налей мне сам, как же напились мы вчера, у-фф, а Сашка Гагарин чуть не упал в Москва-реку.
Он назвал еще трех театральных наших, пока я наливал ему... и даже пришлось помочь поднести ко рту.
— ... спасибо, брат.
— Ты бы хоть яблоком закусил, отрезать кусочек?
— Н-нет, я не смешиваю. Как хорошо, что пришел, а то я лежу и маюсь... и воли нет встать.
Товарищ мой прикрыл глаза.
Пришлось подождать.
Недолго.
— О, отпускает уже.
Я поспешил воспользоваться и назвал фамилию убитого.
— Знал ты его по Петербургу?
— Зна-ал. Будь так любезен, на подоконнике у меня трубки — одна как вроде заправлена.
Я быстро нашел, зажег ему прикурить и дал чуть времени обрести себя и почувствовать удовольствие.
— А ты к чему спрашиваешь?
— Убили его два дня назад.
— Уби... вот те, — известие грустно подействовало. — Это не страна, Сережа, а воровской и бандитский вертеп, это не власть — суки они предержащие, ой!
Он поглядел на графин.
— Обожди.
— Как убили-то?
— Удавкой. Ограбление.
— Тьфу, не знаешь здесь когда что случится.
— Ты как о нем можешь отозваться? В те годы, я имею в виду.
— Способный очень. По рисунку средь нас один из лучших. Графиком стать мог отменным. Да вот потянуло его идти по классу медальерных искусств у Лялина. А на третий год обучения не пошел, уехал неожиданно заграницу.
— У него средства от родителей были?
— Какое, родителей самих не было — умерли давно от холеры, воспитывался у тетки. Бедный тогда — как мы все. А, заграница?.. Да мы сами тогда удивлялись.
— А он как говорил.
— Невнятно. Что родственник дальний объявился. Да мы и не больно допытывались.
Теперь уже твердой рукой он потянулся к графину.
У графа я оказался в итоге в двадцать минут одиннадцатого, встречен был очень любезно и с предложением выпить хорошего кофе.
Граф мне составил компанию, кофе — уже по запаху стало ясно — совершенно чудесного качества, а на столике, помимо салфеток и сахарницы, лежала большая лупа: так что я понял — удовольствие с делом можно вполне совмещать.
Граф сохранял отличное зрение, и без помощи лупы, взяв монету, сразу сказал:
— Испанский пистоль 1537 года. Первая чеканка, потом пистоль чеканили еще не одну сотню лет.
Он отложил монету, взял чашечку, предлагая жестом и мне.
И после первого небольшого глотка, смешливо сощурил глаза:
— Полагаю, впрочем, что эта чеканка из самых последних.
Я быстро рассказал про происхожденье монеты.
— Ну-с, посмотрим на нее повнимательнее, — граф отставил чашку и взял лупу.
— А подобную среди тех подделок вам не предлагали?
— Не было. Так-так... у меня есть такая в коллекции. По ней, и вообще я знаю, что у первых чеканок пистоля аверс — то есть главная сторона, и реверс — обратная, не вполне симметричны по осевой линии.
— Как бы с поворотом относительно друг друга?
— Именно. Незначительное очень расхождение, но оно есть — испанские чеканщики того времени не придавали ему большого значенья.
Он еще присмотрелся и сообщил:
— О-о, затертость на реверсе совсем современная. Еще: монеты эти делали строго по весу, и избыток убирали — вот как здесь, видишь, нет кусочка края. Это типично. Современный мастер данную особенность знал, но посмотри, как точно по линии сделано.
— То есть заложено уже в саму форму отливки?
— Правильнее, в штемпель.
Я уже знал разницу: литье — заливка металла в форму, штемпель же выдавливает изображение — здесь тот же принцип, что у обычной печати; где-то в середине XVI века штемпель стали крепить на стержень винтового пресса, а с конца того века стал распространяться изобретенный Леонардо да Винчи способ конвейерной штамповки на роликовом механизме.
— Любопытно, за что же заплатил он всё-таки жизнью. И он ли автор других тех монет?.. Не исключено, Сережа, на поприще этом трудится не один.
— Этот художник по классу медальерных искусств у Лялина учился.
— У Александра Павловича? — удивился граф. — Хм, способный, следовательно, был молодой человек. Профессор Лялин большая фигура, Императорские заказы имел, в ученики его попасть могли только немногие.
Лакей подошел с маленьким серебряным подносом, на котором лежал белый конверт.
Конверт был уже сбоку разрезан, граф вынул из него небольшой листок.
Пробежал очень быстро... и с ироническим оттенком улыбка явилась на мгновение в его лице.
— Мой преемник — нынешний генерал-губернатор — дозволяет мне лекцию в Московском университете о Чаадаеве.
— Дядя говорил, вы были с ним очень близки. Имя его, из-за запретов всяких, окутано тайной.
— А ты, Сережа, читал его знаменитое философическое письмо?
— Читал. Среди студентов у нас ходил от руки переписанный текст. А вы ведь, как главный тогда цензор России, допустили эту публикацию в «Телескопе», хотя трудно угадать было последствия.
— Последствия?.. Ну, гнев Государя Императора меня тогда меньше всего остерегал, да и должен сказать — ко мне он очень благоволил. А вот общественная реакция беспокоила, и гнев с разных сторон оказался больше мной ожидаемого.
Философическое письмо Петра Яковлевича Чаадаева знала почти вся мыслящая Россия. Появилось письмо в 1836 году в журнале «Телескоп». Собственно говоря, название «Письмо» было наивной маскировкой — дескать, публикация воспроизводит всего лишь мысли, высказанные частным образом некой даме. Никто на это, что называется, не клюнул, и меньше всех Император Николай I, объявивший Чаадаева сумасшедшим.
А само «Философическое письмо» превратилось в постоянный предмет обсуждений и споров.
Чаадаев писал о безнадежной отсталости России от европейского прогресса по всем направлениям — гражданственным, духовным, творческим. Ведущую роль в европейском историческом развитии он уделял католической церкви и не пытался демонстрировать уважения к церкви нашей православной. Критические высказывания о состоянье России были, можно сказать, нецеремонны, в силу чего крайне обидны для каждого, кто искренне или для утвержденья себя проповедовал исключительную истинность православия и великую будущность России, без указания, впрочем, откуда вдруг таковая возьмется. С этого «Письма» пошло деление российских умов на «славянофилов» и «западников». «История» для Чаадаева была не местом существования человека, а средством его устремления. Куда?.. Здесь не было полной ясности, однако сам Чаадаев называл себя религиозным христианским философом, и окончательно мысль его упиралась в движение человека к Богу. Только движение это должно осуществляться при максимальной независимости человека и, вместе с тем, обязательности перед другими членами общества. Можно сказать, что права и обязанности гражданина были для Чаадаева теми самыми аверсом и реверсом одной монеты. Многие поняли, однако, только неуважительную к России и православию часть письма, но отчеты их нельзя признать убедительными — оные носили преимущественно ругательный характер, а попытки выставить встречные аргументы лучше всего выразились в «Письме» Хомякова, тоже как и у Чаадаева к неизвестной даме. Здесь же обозначилась и «главная линия» славянофилов:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: