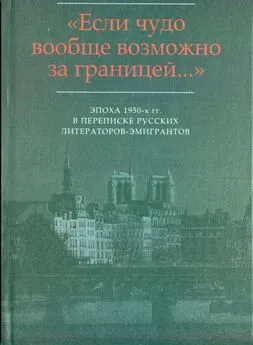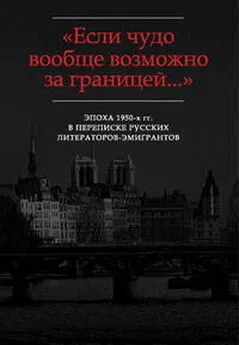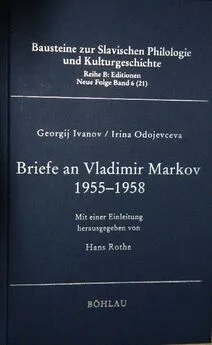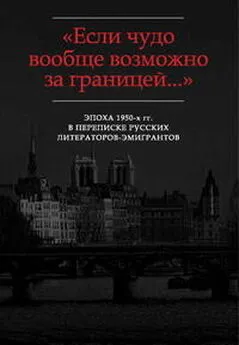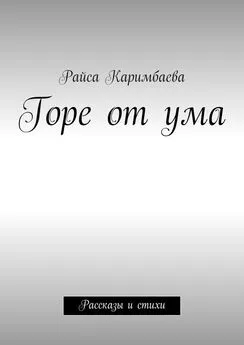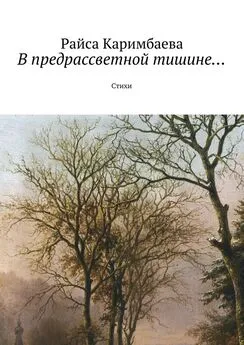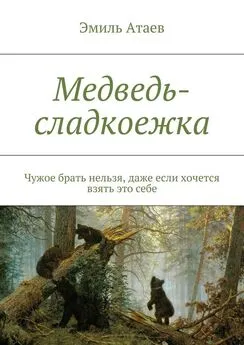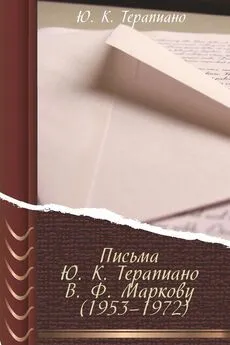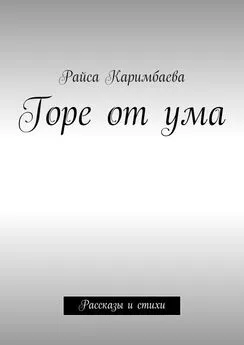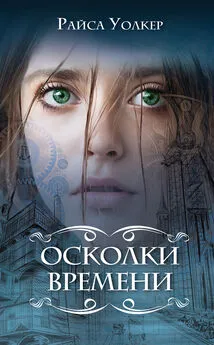Эммануил Райс - «Хочется взять все замечательное, что в силах воспринять, и хранить его...»: Письма Э.М. Райса В.Ф. Маркову (1955-1978)
- Название:«Хочется взять все замечательное, что в силах воспринять, и хранить его...»: Письма Э.М. Райса В.Ф. Маркову (1955-1978)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Библиотека-фонд Русское зарубежье, Русский путь
- Год:2008
- Город:Москва
- ISBN:978-5-98854-011-3; 978-5-85887-309-X
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эммануил Райс - «Хочется взять все замечательное, что в силах воспринять, и хранить его...»: Письма Э.М. Райса В.Ф. Маркову (1955-1978) краткое содержание
Эммануил Райс (1909–1981) — литературовед, литературный критик, поэт, переводчик и эссеист русской эмиграции в Париже. Доктор философии (1972). С 1962 г. Райс преподавал, выступал с лекциями по истории культуры, работал в Национальном центре научных исследований. Последние годы жизни преподавал в Нантеровском отделении Парижского университета.
С В.Ф. Марковым Райс переписывался на протяжении четверти века. Их переписка, практически целиком литературная, в деталях раскрывающая малоизученный период эмигрантской литературы, — один из любопытнейших документов послевоенной эмиграции, занятное отражение мнений и взглядов тех лет.
Из нее более наглядно, чем из печатных критических отзывов, видно, что именно из советской литературы читали и ценили в эмиграции, И это несмотря на то, что у Райса свой собственный взгляд на все процессы. Порой все же слишком свой, непопаданий многовато, но сама задача поиска была особая — выявить все наиболее интересное и новое, даже у самых что ни на есть твердокаменных советских авторов.
Именно постоянное устремление к самому что ни на есть новейшему в литературе постоянно играло с Райсом дурные шутки. Он предпочел бы, чтобы Нобелевскую премию дали Пильняку или Бердяеву, но не Бунину. Ахмадулину считал скучнее Юнны Мориц. Выражал искреннюю радость, если Марков не включал в очередную антологию стихи Бродского или Адамовича, и тут же сетовал, что за пределами антологии остались стихи Дмитрия Ковалева и Сергея Рафальского. Все это теперь выглядит смешно, но ведь то же самое регулярно повторяется и сейчас, однако поклонников новизны во что бы то ни стало ничуть не расхолаживает. Даже Марков, сам недаром слывущий пижоном и эпатажником, не мог себе позволить быть столь радикальным в своих суждениях и оценках.
Переписка любопытна еще и тем, что на этот раз известного эпатажника Маркова критиковали слева. Его, любившего закатить пощечину общественной России, пропагандировавшего самые по тем временам экспериментальные литературные образцы, теперь упрекали в том, что он чересчур банален во вкусах и идет на уступки вкусам широкой публики. Поначалу Марков непременно отговаривался тем, что это был нажим издательств, что тут скрытая ирония, но в конце концов и он вынужден был назвать Райса «загибальщиком».
Некоторые идеи, как видно из писем, были внушены Маркову Райсом (в частности, именно он обратил внимание Маркова на Кузмина, на Бальмонта, и спустя время Марков подготовил издания того и другого, заставившие многих изменить установившиеся мнения об этих поэтах). Он же был одним из тех, кто отговорил Маркова продолжать писать стихи, усиленно предлагая нажимать в первую очередь на критику, и в результате Марков вошел в историю литературы в первую очередь именно как критик.
При этом именно полемика с Райсом оказалась для Маркова наиболее плодотворной. В процессе переписки, и даже не без участия Райса, появилось основополагающее исследование Маркова по футуризму, были заложены основы целого направления в американской славистике.
Из книги: «Если чудо вообще возможно за границей…»: Эпоха 1950-x гг. в переписке русских литераторов-эмигрантов / Сост., предисл. и примеч. О.А. Коростелева. — М.: Библиотека-фонд «Русское зарубежье»: Русский путь, 2008. С. 553–694.
«Хочется взять все замечательное, что в силах воспринять, и хранить его...»: Письма Э.М. Райса В.Ф. Маркову (1955-1978) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Старики — один за другим уходят — напр<���имер>, Вяч. Иванов, или же теряют влияние. Может быть, в момент, когда Россия снова будет свободной и получит возможность вернуться на свой творческий путь, — не окажется у нее больше людей, способных возобновить прерванную связь с бывшим расцветом.
По воле судьбы мне повезло — я и лично знал многих представителей Ренессанса, и имел возможность познакомиться с их творчеством по книгам. Кроме того, мне посчастливилось приобрести общую культуру, вряд ли доступную большинству желающих из современной русской молодежи.
Мое горячее желание, если таковая возможность предвидится, — поставить на службу русской культуре мои силы, в указанном направлении.
Обращаюсь для этого к Вам как к человеку, вполне эти проблемы понимающему и живущему ими (это видно по всему Вами написанному), и не сомневаюсь, что Вы это поймете.
Оставляя временно в стороне вопрос о возможностях воздействия на молодежь в СССР, увы, отрезанную от нас силой вещей (хотя и не могу примириться с тем, чтобы никогда и никак, раз навсегда, мы должны были бы отказаться от мысли им помочь) — нельзя ли как-нибудь показать ценности нашей культуры молодежи, живущей в эмиграции.
В ее среде наверное есть люди, жаждущие подлинной культуры. Их кормят почитанием эмигрантских авторитетов, часто мало чем превосходящих советские.
Я не могу себе представить, чтобы знакомство с живой культурой нашего недавнего прошлого (которое для меня, и наверное, и для Вас — есть настоящее и будущее — или путь к будущему) не зажгло хотя бы некоторых из них.
В этом прошу Вас мне помочь, дорогой господин Марков, если можете. А если нет — извините меня, пожалуйста, за это длинное письмо.
С глубоким уважением и с радостью встретить живого, замечательного, духовно близкого человека остаюсь преданным Вам
Э. Райс
P. S. Простите меня за мое фамильярное обращение к Вам, к сожалению не знаю и не смог узнать Ваше имя-отчество.
Exp: Е. RAIS 5 r Gudin Paris XVIe
2
Париж 17-2-54 [9] Описка, на самом деле 1955 г.
Дорогой Владимир Федорович.
Написал Вам было в первый раз — потому что меня инстинктивно потянуло к Вам. И, действительно, вижу — что не ошибся. То, что Вы рассказываете о себе и о русской молодежи — очень интересно. Но главное — направленность Ваших исканий…
Начну с того, чтобы, со своей стороны, рассказать Вам вкратце о себе — то, что может Вам помочь ориентироваться. Не в пример Вам — я человек с окраины — родился в Бессарабии (Хотин) в еврейской семье в 1909 г. В 1918 г. нас оккупировали румыны, что мне дало возможность ознакомиться и с их языком и культурой, довольно значительными. Как и все окружающие — считал себя русским и жил русской культурой. Только в провинции, у нас, ценили главным образом то, что и теперь прославляется в СССР: Пушкин — Гоголь — Лермонтов — конечно! Но затем — Белинский — Писарев — Добролюбов — и имя им легион, даже Надсон, Скабичевский и еще хуже. Понимать Пушкина учились у Белинского.
Только, помню, меня никогда не удовлетворяла эта «критика» — инстинктивно я чувствовал, что это «не то», но не знал, где искать настоящее. О Брюсове, напр<���имер>, или о Гиппиус у нас говорили презрительно, как о «декадентах», которых следовало чураться, чтобы избежать развращения.
Поэтому, еще в гимназии, через румын, я приник к французам (Бодлер — Рембо — Маллармэ) и увлекся ими. К русской же культуре относился с легким пренебрежением.
И вот, в Париже, куда я попал в 1934 г., я встретился с эмигрантами, которые мне открыли подлинную, мою Россию — у которой я очень быстро почувствовал себя дома — впервые в своей жизни. Наиболее сильное впечатление произвели на меня Розанов, Белый, Шестов, а среди поэтов Сологуб, Блок, Кузмин, Мандельштам, Цветаева, Хлебников…
Но, как и Вы теперь, был далек от религии, и поэтому многое оставалось мне закрытым.
Когда наступила гитлеровщина, я открыл свое еврейство, сначала из оскорбленной гордости, потом и духовное ядро. Изучил древн<���е>евр<���ейский> язык и получил доступ к величайшей мистике и метафизике человечества — к Талмуду, Зогару, лурианской каббале, хасидизму и т. д. (Верьте, что это я не из патриотизма — давно люблю и изучаю и индусскую, и китайскую, и мусульманскую, и западную мудрость.) Думал себя посвятить целиком этому, но пришлось бросить из-за того, что, взявшись 35 лет от роду за изучение древн<���е>евр<���ейского> языка и письменности, я убедился, что навеки осужден в них оставаться подмастерьем или калекой.
Вернувшись после войны в мою русскую стихию в Париж (хотя и сильно обедневшую) — выкристаллизовалось так: оставаться духовно евреем русской культуры. Опыт, приобретенный в еврействе, открыл мне глаза на духовность русского православия — главн<���ым> обр<���азом> на раскол. Кроме Аввакума, раскольники никогда не переставали творить напряженно и прекрасно в области веры. Они создали богатейшую, прекрасную литературу, увы, очень мало известную, даже самым образованным русским (все-таки покойный Г.П. Федотов ее знал и немало говорил мне о ней). Затем — русская философия, начиная от Сковороды и славянофилов до недавно умерших Франка и Булгакова. Особенно меня поразили погубленные большевиками Флоренский и А.Ф. Лосев — последний выступил в печати уже при большевиках и на свои личные средства, в советских условиях, выпустил 5–6 книг, вероятно наиболее гениальных из всего созданного в области мысли в XX веке во всем мире.
Ну вот — только теперь, когда все богатство Ренессанса мне, наконец, открылось, — оказывается, поздно. Мы с Вами, дорогой Владимир Федорович, остались, б. м., последними чудаками, интересующимися столь «несозвучным эпохе» старьем.
Но сидеть сложа руки, конечно, нечего. Именно встреча с Вами дает мне надежду. Если нас двое — значит, несомненно, где-то, неизвестно где, есть еще люди, стремящиеся к тому же самому, и мне кажется, что Ваши статьи и книга наверняка сделают большое дело, не только «растормошив», но и послужив сигналом ко встрече и объединению одиночек, ищущих того же, что и Вы.
М. б., наступает пора скликать рассеянную рать русской культуры для будущего, которого мы, конечно, знать не можем, но готовить обязаны. Солнце может встать неожиданно и растопить льды. А ведь 10 таких человек, как Вы (не только критиков, но и поэтов, повествователей, мистиков и т. д.), — это уже солнце. И даже если нам не дожить до настоящей весны, то наш труд не пропадет — он ее готовит, как не пропал даром труд парижских поэтов, которые в будущем непременно вольются в русло русской литературы ценной струей, свежей, новой и нужной.
Разве Аполлон Григорьев, Случевский или Леонтьев, тоже погибшие в безвременьи и писаревщине, не помогли возникновению Ренессанса и не обогатили его.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: