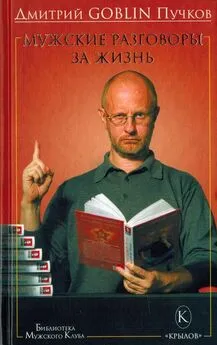Дмитрий Быков - Календарь. Разговоры о главном
- Название:Календарь. Разговоры о главном
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ, Астрель
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-070384-5, 978-5-271-31273-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Быков - Календарь. Разговоры о главном краткое содержание
Дмитрий Быков — прозаик, поэт, известный публицист, считает, что вместе с XX веком закончилось тысячелетие разговоров и осмыслений «проклятых вопросов», а все достижения, катастрофы и противостояния предшествующих веков сделались историей — скорее мертвой, чем живой. И тем не менее люди не устают говорить и спорить о Петре и Павле, декабристах и «катастрофе 1917 года», о Сталине и либерализме, Достоевском и «достоевщине», Законе и Благодати… Все это — ЛИЧНОЕ ПРОШЛОЕ, от которого никуда не деться.
В своей новой книге «КАЛЕНДАРЬ» Дмитрий Быков выбрал «датскую форму», чтобы вспомнить имена и события, которые останутся с нами навсегда, даже если сегодняшний школьник не сразу поймет, о чем идет речь.
Календарь. Разговоры о главном - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Собственно, raison d’etre поэтического высказывания — «почему это вообще должно быть сказано и почему в рифму» — в каждом случае индивидуален; он-то и называется стратегией поэта. Главная пропасть между Пушкиным и Лермонтовым, скажем, лежит как раз в этой области: в силу исключительного формального совершенства — «на вершине все тропы сходятся» — они кажутся ближе, сходственней, чем в реальности. На самом деле вот где две противоположные стратегии: пушкинское жизнеприятие, описанный Синявским нейтралитет, всевместимость, равная готовность всем сопереживать и все описать (на враждебный взгляд это кажется пустотой) — и лермонтовская явная агрессия, деятельное, воинственное, субъективное начало, интонация «власть имеющего», о чем так гениально сказал Лев Толстой Русанову. Это и есть разговор с позиций силы, и эту интонацию надо было найти. «Кастетом кроиться миру в черепе». Применительно к двадцатым ее нашел Маяковский, применительно к послевоенной эпохе — Слуцкий.
Задача заключалась в том, чтобы найти язык, на котором можно сказать вообще что угодно, — и это будет не просто поэзией, но поэзией агрессивной, наступательной, интонационно-заразительной. Слуцкий этот язык нашел, нащупал его основные черты, дискурсом его с тех пор в той или иной степени пользовались все большие поэты следующего поколения. Единственную альтернативу ему предложил вечный друг-соперник Самойлов, которым Слуцкий нередко любовался и которого все-таки недолюбливал. Тут тема не для одного исследования. Самойлов воевал не хуже, хоть и не дослужился до майора и не устанавливал советскую власть в Венгрии. Самойлов не был либералом — дневники рисуют его скорее имперцем, да и в стихах чувствуется никак не эскепизм, не эстетизм и не дистанцированность от вопросов времени. Никакого релятивизма, опять-таки. Просто где у Слуцкого пафос прямого высказывания — там у Самойлова глубокий и могучий подтекст: это не страх расшифровки, не обход цензуры, а просто поэтика такая. Самойлов, грубо говоря, приложим к большему числу ситуаций — может, поэтому он сегодня даже востребованней Слуцкого: многое из того, о чем говорил Слуцкий, ушло и сегодня уже непонятно. А Самойлов высказывается на поверхностный взгляд общо и расплывчато: «Эта плоская равнина, лес, раздетый догола… Только облачная мнимо возвышается гора. Гладко небо, воздух гладок, гладки травы на лугах — и какой-то беспорядок только в вышних облаках». Это про все, в том числе и про эпоху, но во времена, когда Самойлов «выбрал залив», — Слуцкий остается в Москве, он конкретен и пристален, его тексты насыщены сиюминутными реалиями. Это не мешает им оставаться поэзией, поскольку найденная Слуцким литературная манера позволяет говорить о чем угодно с абсолютной прямотой и естественностью. Таким манером можно прогноз погоды излагать — и будет поэзия.
Вот здесь и есть их главное сходство с Бродским, стратегическое: нащупать манеру, интонацию, стилистику, в которой смысл высказывания перестает быть принципиальным. Важен активный, наступательный стих. Ведь, что греха таить, повод для высказывания у Слуцкого бывает совершенно ничтожным, а у Бродского иногда вовсе отсутствует, что и декларируется, но напор речи сам по себе таков, что слушаешь и повторяешь. У Слуцкого есть гениальные стихи, но есть и ровный фон обычных очень хороших — когда он говорит о чем попало, лишь бы говорить. И в этом заключается главное поэтическое открытие второй половины XX века, известное в разных формулировках (чаще всего их в силу публичной профессии национального поэта озвучивал опять же Бродский), но сейчас мы попробуем высказаться с наибольшей откровенностью. Во второй половине XX века стало окончательно ясно: неважно, о чем говорить. Любая идея может на практике обернуться своей противоположностью. Строго говоря, идей вообще нет. Есть способ изложения, и поэтическая речь есть абсолютная самоценность сама по себе, поскольку она сложно организована и в этом качестве противостоит мировой энтропии. А энтропия есть единственное бесспорное и абсолютное зло. Поэтому любой, кто хорошо — энергично, точно, мнемонически-привлекательно — пишет в рифму, уже делает благое дело; и это, может быть, единственное доступное благо. Найти тему не составляет труда — конечно, призывать в стихах к убийству не следует; но симоновское «Убей его» не стало ведь хуже, хотя это квинтэссенция ненависти и в известном смысле отказ от любых гуманистических ограничений. Но и Маяковский не стал хуже от того, что сказал: «Стар — убивать. На пепельницы черепа!». Сам способ поэтического высказывания отрицает бесчеловечную сущность этих стихов. Поскольку лучшее, что может делать человек, — это гармонизировать мир, то есть писать в рифму.
Слуцкий сделал для этой гармонизации очень много, потому что писал по три-четыре стихотворения в день в лучшие времена и по одному — в непродуктивные. Раз наработав приемы и способ высказывания, он уже никогда с этой дороги не сходил, хотя и оттачивал метод, доводил до блеска, расширял сферу приложимости и т. д. Задача изначально заключалась в нахождении и апробировании таких приемов, с помощью которых можно рассказать про все, в том числе про то, как человек от голода выедает мясо с собственной ладони. Вот почему зрелый Слуцкий начинается с «Кельнской ямы»: если можно в стихах рассказать про такое, дальше можно все. В этой же стилистике можно рассказывать про «Лошадей в океане», а можно про смерть жены, про такие вещи, о которых думать страшно, не то что говорить:
Я был кругом виноват, а Таня
мне все же нежно сказала: Прости! —
почти в последней точке скитания
по долгому мучающему пути.
Преодолевая страшную связь
больничной койки и бедного тела,
она мучительно приподнялась —
прощенья попросить захотела.
А я ничего не видел кругом —
слеза горела, не перегорала,
поскольку был виноват кругом,
и я был жив,
а она умирала.
Правда, в этой же стилистике можно писать и о вещах совершенно повседневных, особого интереса не представляющих, можно хоть газету пересказывать, но все равно это будет захватывающе, убедительно и победительно. Что, у позднего Бродского мало трюизмов и самоповторов? Да полно. Человеческого содержания жизни, на глазах иссякающей, уже не хватает на новые темы и отважные обобщения: триста метров вдоль фасада пройти трудно. Но поэтический дискурс, механизм преобразования прозы в поэзию, работает: ну так надо писать, чтобы бороться с распадом — мировым ли, своим ли собственным… В случае Слуцкого речь шла прежде всего о преодолении собственной болезни, личного глубинного неблагополучия — поэзия была тем способом самоорганизации, приведения себя в чувство, которым он пользовался многие годы для борьбы с депрессиями, с ужасом мира, это была единственная опора, с помощью которой он умудрялся, столько натерпевшись и навидавшись, сохранять рассудок. Когда это отказало, безумие подступило вплотную — ум остался, исчезло желание и сила жить, потом начались фобии — страх нищеты, страх голода… То есть причинная связь выглядела не так, как иногда пишут, — не стихи перестал писать оттого, что сошел с ума, а сошел с ума, когда не смог больше заслоняться стихами. Думаю, с Бродским случилось бы то же, но у него крепче были нервы, и все-таки он не воевал, не был так тяжело контужен: способность сочинять сохранялась, и за ее счет он прожил дольше, чем мог при своей сердечной болезни, состарившей и разрушившей его в какие-то пять лет.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: