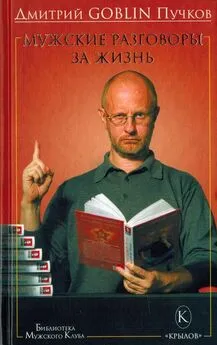Дмитрий Быков - Календарь. Разговоры о главном
- Название:Календарь. Разговоры о главном
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ, Астрель
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-070384-5, 978-5-271-31273-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Быков - Календарь. Разговоры о главном краткое содержание
Дмитрий Быков — прозаик, поэт, известный публицист, считает, что вместе с XX веком закончилось тысячелетие разговоров и осмыслений «проклятых вопросов», а все достижения, катастрофы и противостояния предшествующих веков сделались историей — скорее мертвой, чем живой. И тем не менее люди не устают говорить и спорить о Петре и Павле, декабристах и «катастрофе 1917 года», о Сталине и либерализме, Достоевском и «достоевщине», Законе и Благодати… Все это — ЛИЧНОЕ ПРОШЛОЕ, от которого никуда не деться.
В своей новой книге «КАЛЕНДАРЬ» Дмитрий Быков выбрал «датскую форму», чтобы вспомнить имена и события, которые останутся с нами навсегда, даже если сегодняшний школьник не сразу поймет, о чем идет речь.
Календарь. Разговоры о главном - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Интеллигент, понятное дело, все равно боялся рельсового чудовища. Олеша уверял Катаева, что трамваи его втайне не любят и ни за что не подойдут к остановке, коль скоро на ней стоит автор «Зависти». Тут он был прав — советская власть его действительно не любила, хоть и не тронула. Герой «Рассеянного» — одного из самых эзотеричных текстов советской литературы, написанного скрытым диссидентом Маршаком, — вообще мечтал об эмиграции, хоть и шифровался: «Во что бы то ни стало мне надо выходить. Нельзя ли у трамвала вокзай остановить?!». Нельзя, милейший, езжайте со всеми. Вам во что бы то ни стало надо выходить, а нам ехать. Если по каждому требованию останавливаться, мы никогда не доедем до Большого Коммунистического тупика. Возникшая в тридцатые годы пословица «Жисть — хоть под трамвай ложись» выдавала готовность капитулировать перед неумолимой властью — и альтернативы действительно не было, особенно если учесть, что на блатном жаргоне «трамваем» называлось еще и групповое изнасилование. Но насилие насилием, а когда оно становится повседневным и почти привычным — это уже называется стабильностью. Люди впервые почувствовали, что блокаде конец, когда по Ленинграду после трехлетнего перерыва снова двинулись трамваи.
Дальше трамвай эволюционировал параллельно советской власти: его стали исподволь вытеснять более гибкие (как троллейбус) или более мобильные, но и вонючие (как автобус) стратегии. Все это нарастало подспудно, и красный царь московского центра никем официально не упразднялся. При Хрущеве у него отняли центральные проспекты — и Окуджава зафиксировал это с присущей ему сентиментальностью, с какой провожал московскую старину, противную, конечно, но ностальгически милую: «По проспектам уже не дают, в переулках дожить разрешают… Добрых песен о нем не поют, со смешком провожают. Но по уличкам через мосты он бежит, дребезжит и бодрится, и с горячей ладони Москвы все сойти не решится».
Сентиментальность, однако, оказалась преждевременной — как оно всегда и бывает. Загнанный в переулки, трамвай никуда не исчез. В переулках-то, между прочим, и происходит главная русская жизнь — как точно заметил историк и писатель Владимир Шаров, «история делается в тупиках, а не на магистралях». Трамвай не собирается сдаваться, чем изрядно затрудняет движение по Лесной и Палихе, Покровскому и Ломоносовскому, по улицам Петроградской стороны и Васильевского острова, но расстаться с ним нельзя. Это значило бы окончательно убить в себе что-то очень важное, что-то советское. И советское остается бессмертным, хоть и спрятанным в наше общее подсознание. Оно тихо позванивает в переулках, но в решающий момент может вырваться из-за поворота и вполне себе отрезать голову зазевавшемуся интеллигенту. А может и подобрать его в ночи, забравшись в такую глушь, перед которой спасует и последний троллейбус. В конце концов, этот трамвай — с его предсказуемыми и логичными рельсами, с которых ему не свернуть ни при каких обстоятельствах, — милей и понятней разнузданных джипов, которым отданы теперь главные магистрали. Эти ездят уж вовсе без правил — уступая дорогу только правительственным мерсам с мигалками — и почему-то считают это свободой.
23 мая
Лев Толстой беседует с Гольденвейзером о государстве (1910)
ТОЛСТОЛЕТИЕ
2010 год проходит под знаком Толстого — нет-нет и заглянешь в его дневники ровно столетней давности, в письма, в воспоминания близких… Вот двадцатые числа мая 1910 года: с 23-го гостит у него Гольденвейзер, подробно фиксирующий в дневнике, о чем было говорено. Сам Толстой в эти дни много гуляет, обдумывает и записывает. Куда как соблазнительно сказать: сто лет прошло, а ничего-то у нас не изменилось! Однако толстовские дневники и разговоры как раз изобличают динамику. Кое-что осталось неизменным, а кое-что, напротив, переменилось радикально — из этого следуют любопытные выводы.
Вот, например, он записывает 22-го: «Общаясь с человеком, заботься не столько о том, чтобы он признал в тебе любовное к нему отношение, сколько о том, чувствуешь ли ты сам к нему истинную любовь». День спустя он развивает эти мысли Гольденвейзеру: «Когда я обдумываю, как мне поступить, то должен быть только я и Бог, который во мне. И если я наедине с Богом решил, что я должен поступить так, то больше не должно быть других соображений. Думать о людях и их отношении к себе очень опасно. Казалось бы, очень хорошо стараться, чтобы люди меня любили, а это дурно. Если иногда удается забыть о людях, испытываешь какой-то экстаз свободы».
Это игнорирование чужого мнения — прекрасная вещь, когда есть свой бесспорный нравственный ориентир; но сегодня, сто лет спустя, мы видим, что страх чужого осуждения — механизм более надежный и, может быть, последний. В одном интервью Вознесенский высказал мысль о том, что шестидесятникам повезло: благодаря всемирной славе они были на виду, и оттого меньше было риска сделать гадость или просто пойти на компромисс. Постоянно прикидывать, что о тебе подумают, — дурно с толстовской точки зрения, но у Толстого есть мощный нравственный тормоз, а у современного человека, особенно российского, он в силу разных причин ослабел. Мы научились отлично себя уговаривать, смиряться с невыносимым и терпеть нестерпимое, а потому забота о чужом мнении для многих становится единственной основой морали. Толстого, и так страшно тяготившегося публичностью каждого своего шага, вероятно, ужаснула бы прозрачность мира, в котором мы живем, но что поделать, если только эта прозрачность и удерживает некоторых от окончательного свинства? «Экстаз свободы» — хорошая вещь, когда в него впадает Толстой; а когда скинхед? Да что там — когда обыватель? Нет, за сто лет все перевернулось: самое опасное — как раз НЕ думать «о людях и их отношении к себе». И радоваться надо, что этот экстаз не так-то легко достижим.
Еще меньше соответствует реалиям 2010 года другая мысль Толстого, высказанная в эти же дни: «В какой-нибудь бабе дорога именно эта настоящая вера в живого Бога, все равно, что она его видит в матушке царице небесной или в иконе. Это все-таки живой Бог, и во всяком случае, она ближе к Богу, чем профессор». Для 1910 года она, пожалуй, тривиальна, но «простые» (по-толстовски говоря, «хорошие и серые») люди ближе к Богу только там, где жива традиция. Пока она сильна, интеллект в самом деле мешает следовать ей, заставляет сомневаться и роптать; но когда она, как в нынешней России, искусственно прервана и до сих пор не восстановлена (потому что восстанавливают ее теми самыми средствами официозной религии, которые Толстой категорически не принимал), надежнейшим путем к Богу остается интеллект. Только высокое интеллектуальное развитие не удовлетворяется плоским эмпиризмом, позитивистским высокомерием, самодовольным наукоцентризмом и прочими атеистическими самообманами. Когда страна тотально религиозна, ум нужен для богоборчества; но когда она вовсе лишена нравственных ориентиров — именно интеллект спасает от гордыни. В атеизме удивительно много гордости и самодовольства, победить их способен только тонкий и самокритичный разум — и процент истинно верующих, думаю, сегодня куда выше среди нелюбезных Толстому «профессоров», нежели среди «серых». Пока традиция сильна, человеку толпы она способна заменить и ум, и даже мораль: он будет поступать не по совести, а потому, что «так принято». Но когда принято черт-те как или вовсе никак, для истинной веры нужен прежде всего разум — притом развившийся до той степени, когда самолюбование ему уже смешно, когда он озабочен не бесконечным «позиционированием себя», а реальным поиском смысла и оправдания. Одна умная десятиклассница недавно меня спросила: неужели Толстой для того провел Пьера через такие искушения и бездны, чтобы его духовное развитие завершилось каратаевщиной, то есть фактическим отказом от интеллекта? Толстовская ненависть ко всему «умственному» в самом деле общеизвестна, но Каратаев как тип исчез или как минимум маргинализировался. А в таких обстоятельствах единственной альтернативой уму становится зверство, животный эгоизм, пир низменности. И потому сегодня интеллект — чуть ли не единственная опора морали, а заодно и религиозного чувства; ведь Бог — это сложно. Для простых умов — язычество, магизм, ритуалы, заговоры и заклятия, приметы и сглаз, приворот и порча. А Бог сегодня приходит к умным, и это, пожалуй, наиболее принципиальная перемена.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: