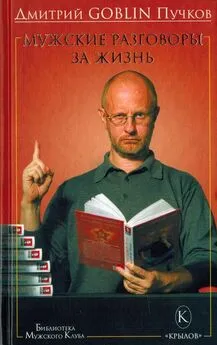Дмитрий Быков - Календарь. Разговоры о главном
- Название:Календарь. Разговоры о главном
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ, Астрель
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-070384-5, 978-5-271-31273-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Быков - Календарь. Разговоры о главном краткое содержание
Дмитрий Быков — прозаик, поэт, известный публицист, считает, что вместе с XX веком закончилось тысячелетие разговоров и осмыслений «проклятых вопросов», а все достижения, катастрофы и противостояния предшествующих веков сделались историей — скорее мертвой, чем живой. И тем не менее люди не устают говорить и спорить о Петре и Павле, декабристах и «катастрофе 1917 года», о Сталине и либерализме, Достоевском и «достоевщине», Законе и Благодати… Все это — ЛИЧНОЕ ПРОШЛОЕ, от которого никуда не деться.
В своей новой книге «КАЛЕНДАРЬ» Дмитрий Быков выбрал «датскую форму», чтобы вспомнить имена и события, которые останутся с нами навсегда, даже если сегодняшний школьник не сразу поймет, о чем идет речь.
Календарь. Разговоры о главном - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
При этом, конечно, Ахматова была лириком исключительной силы — именно силы, входящей в набор советских добродетелей и доминирующей в этом наборе. Музыкальность властная, доминирующая, безошибочно выбранные размеры, лаконизм, бесстрашие на грани бесстыдства — все это черты большого поэта; но ведь больших поэтов в XX веке было много. А вот поэтов, которые бы через всю жизнь пронесли великолепное презрение ко всему человеческому и жажду сверхчеловечности, тоску по герою, которого не бывает, и радостное приятие испытаний, которые совершенствуют нас, если не убивают, — в России единицы. В Испании я назвал бы гениального лирика Леона Фелипе, к которому Ахматова, прочитав «Дознание» в переводе Гелескула, на полном серьезе ревновала: «Это я должна была написать!» Он был, кстати, любимым поэтом другого сверхчеловека, тоже более или менее безразличного к окружающим, — Че Гевары. Фелипе мексиканского периода — после эмиграции — в этом смысле особенно показателен; презрение к жизни возведено у него в ту степень, когда собственное бытие вызывает лишь легкое, чуть брезгливое умиление, кажется случайностью, мелочью — думаю, Ахматова подписалась бы под одним из лучших его текстов:
«Эта жизнь моя — камешек легкий, словно ты. Словно ты, перелетный, словно ты, попавший под ноги сирота проезжей дороги; словно ты, певучий клубочек, бубенец дорог и обочин; словно ты, пилигрим, пылинка, никогда не мостивший рынка, никогда не венчавший замка; словно ты, неприметный камень, неприглядный для светлых залов, непригодный для смертных камер… словно ты, искатель удачи, вольный камешек, прах бродячий… словно ты, что рожден, быть может, для пращи, пастухом несомой… легкий камешек придорожный, неприкаянный, невесомый».
Вот что такое сверхчеловечность, а не всякие там бряцания национальностями или датами. Это все как раз — самая что ни на есть вонючая человечность; а сверхчеловек — камень, которому никто не нужен и который никогда не пойдет на строительство всякого рода замков. Сверхчеловек — не тот, кто говорит «хочу», а тот, кто в тюремной очереди говорит «могу».
И как хотите — настоящей поэзии без этого не бывает; поэтому в советское время она была возможна всему вопреки, а сейчас, за редчайшими исключениями, ахти.
2 июля
Родился Патрис Лумумба (1925)
КАТАКОКОМБЫ ЛУМУМБЫ
2 июля 1925 года в Катакокомбе (Бельгийское Конго) родился Патрис Лумумба. Восемьдесят пять лет — не критический возраст: глядишь, был бы жив — «и царствовал, но Бог судил иное».
В отношении Советского Союза особенно нагляден исторический бумеранг: страна погибла ровно от того, что пестовала и поддерживала. Двумя главными бедами постсоветской России оказались национализм и терроризм, с которыми советская власть продолжала заигрывать и в дряхлости. В области коммерциализации и отхода от кое-каких принципов — в частности, от большевистской аскезы, доходящей до ригоризма, — она смягчалась, привыкала ценить комфорт, разрешала художественные изыски и вообще давала надежды на конвергенцию с Западом, питаемые и умными людьми вроде Сахарова. Но в идеологии, особенно во внешней политике, эта престарелая комсомолка продолжала вести себя, как свобода на баррикадах, что и в молодости неприлично, а в старости вообще ни на что не похоже. Она заигрывала с самыми деструктивными и отвратительными силами — и эти самые силы погубили то, что от нее осталось, в полном соответствии с прекрасным рассказом Пелевина «Тхаги», где самый пылкий поклонник зла обречен достаться этому злу на обед.
Терроризм ужасно нравился советской власти, и не зря она публично лобзалась с Арафатом, на котором по любым людским меркам пробы ставить негде, как ни относись к борьбе палестинского народа, ныне совершенно скомпрометированной. Когда я в 2000 году спросил одного умного силовика — тогда такие водились, — откуда вдруг в России столько потенциальных террористов, и не только на Кавказе, а в самой что ни на есть глубинке, он пожал плечами: «Что вы хотите от страны, где сто лет святыми считались Засулич, Перовская, Халтурин?». С националистами было трудней, поскольку официально это не поощрялось, и даже родных почвенников слегка цукали, хоть и не так, как западников-либералов; но если речь заходила о так называемых национально-освободительных движениях, тут мы были двумя руками за. Тогдашним партбонзам — а также многим нынешним мечтателям — и в голову не приходило, что «национально-освободительный» — такой же оксюморон, как «демократический централизм» или «религиозный гуманизм». Национальное — о чем следовало бы помнить любым его адептам — никогда не освобождает: оно лишь сбрасывает сравнительно мягкий гнет, чтобы заменить его более жестким, окончательно бескомпромиссным. Поскольку даже имущественный ценз можно обмануть, раздав имение, а кровь и почву не отменишь.
Вся эта преамбула понадобилась лишь для того, чтобы установить прямую связь между культом Лумумбы в СССР и последующей судьбой этой страны-аббревиатуры, в которой скоро завелись как свои Ясиры, так и свои Патрисы. Я не склонен соглашаться с сегодняшними разоблачителями Лумумбы, видящими во всех его действиях исключительно личный мотив: и воровал-то он, и ни к чему, кроме личной власти, не стремился… Он был, конечно, не пряник, как и Че Гевара не Чиполлино (и не зря первая чегеваровская попытка экспорта революций была именно в Конго — крах этой операции вызвал у Че самую глубокую депрессию за всю жизнь; правда, случилось это уже через четыре года после смерти Лумумбы). Нет, я думаю, Лумумба был человек с идеями, храбрый, небездарный — «был он изящен, к тому ж поэт»: стихи то ли в некрасовском, то ли в надсоновском духе, на конголезский, конечно, лад — о мой черный страдающий брат, тебя эксплуатировали, жену твою насиловали, а тебе оставили только право плакать, но ничего, ничего! Мы сейчас покажем, кто истинный хозяин нашей униженной, но богатой земли! Однако идейность, как мы знаем, не индульгенция: кровожадность с принципами, конечно, лучше голого грабежа хотя бы потому, что идейный может передумать, а бандит — никогда; но по результатам идеологический погромщик даже опасней, поскольку у него есть шанс посмертно сделаться святым и послужить примером, «призывом гордым к свободе, к свету». Что и случилось с Лумумбой, не сделавшим за свою жизнь, надо признаться, почти ничего хорошего.
Разумеется, он был борцом против колониального гнета, и вряд ли кому придет в голову нахваливать колониальный гнет. Но история так устроена, что некоторые малоприятные вещи с годами облагораживаются: христианство тоже начинало не с миролюбия, и крестовых походов из его истории не вычеркнешь. Хищническая колонизация в 1870-х, когда Конго сделалось фактической колонией Бельгии, или в 1908-м, когда этот статус закрепился окончательно, — совсем не то, что дряхлый колониализм шестидесятых. Можно выбирать между советской властью 1920-х и националистическими движениями 1980-х, в результате которых СССР развалился так же, как колониальная система во второй половине XX века, но при выборе между упомянутым национализмом и поздней соввластью лично мне совершенно очевидно, что соввласть мягче, умней, сложней, а хищничества в ней куда меньше: зубы уже не те. Можно — хотя не думаю, что нужно, — спорить о том, что привносила советская колонизация в жизнь той же Средней Азии и что забирала взамен, но не сомневаюсь, что давала она больше, чем брала. В Бельгийском Конго соотношение было явно другое — как-никак большая часть мировых запасов урана именно в Конго и сосредоточена, — но бельгийский (британский, французский) колониализм в Африке по крайней мере не приводил к перманентным гражданским войнам, голоду и запустению, а также к массовым убийствам на почве трайбализма. Хотел того Лумумба или нет, но своей отчаянно-радикальной борьбой против любого европейского присутствия в Конго он вверг страну сначала в пятилетнюю войну всех со всеми, а потом в тридцатилетнюю диктатуру, от которой уж точно не выиграл никто. Когда талантливого человека, к тому ж поэта, убивают в тридцать шесть лет — это, само собой, нехорошо; но смерть Лумумбы, тут же провозглашенного в СССР народным героем и давшего имя Университету дружбы народов, стала лишь прологом к бесчисленным конголезским смертям, причем доставалось и белым (за то, что белые), и черным (по принципу «а что делать?!»). Что самое интересное, поддержка и канонизация этого убежденного националиста шла в СССР как раз под лозунгом интернациональной дружбы, как называлась у нас, в сущности, поддержка чужих национализмов на фоне умеренного гнобления своего.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: