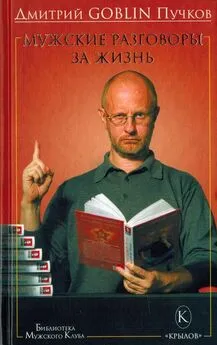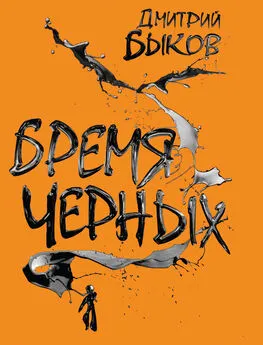Дмитрий Быков - Календарь. Разговоры о главном
- Название:Календарь. Разговоры о главном
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ, Астрель
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-070384-5, 978-5-271-31273-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Быков - Календарь. Разговоры о главном краткое содержание
Дмитрий Быков — прозаик, поэт, известный публицист, считает, что вместе с XX веком закончилось тысячелетие разговоров и осмыслений «проклятых вопросов», а все достижения, катастрофы и противостояния предшествующих веков сделались историей — скорее мертвой, чем живой. И тем не менее люди не устают говорить и спорить о Петре и Павле, декабристах и «катастрофе 1917 года», о Сталине и либерализме, Достоевском и «достоевщине», Законе и Благодати… Все это — ЛИЧНОЕ ПРОШЛОЕ, от которого никуда не деться.
В своей новой книге «КАЛЕНДАРЬ» Дмитрий Быков выбрал «датскую форму», чтобы вспомнить имена и события, которые останутся с нами навсегда, даже если сегодняшний школьник не сразу поймет, о чем идет речь.
Календарь. Разговоры о главном - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Все чеховские герои думают, что любят, страдают, борются за общественное благо, — а между тем они делают смешные и пошлые глупости, и ничего кроме. Это в равной степени касается героя смешного рассказа «С женой поссорился» и серьезной новеллы «Володя большой и Володя маленький». Смешно любить, ссориться, ревновать, служить народу — и быть народом. «Злоумышленник», скажем, — как раз про народ, не дотягивающий даже до того, чтобы быть полноценно преступным. Смешно про все это писать. Жить смешно, умирать еще смешнее. Ведь прекрасный экзекутор Червяков умер по-настоящему, умер потому, что обчихал в театре лысину вышестоящего лица. Так и называется: «Смерть чиновника». История, между прочим, почти буквально пародирует историю другого чиновника, Башмачкина, тоже умершего после начальственного ора. Не хватает чеховскому рассказу гоголевского финала, в котором бы гигантское привидение Червякова насмерть обчихивало тайных советников, топило бы их в соплях… но потому его и не может быть, что Акакий Акакиевич в таком финале величественен. А Червяков и есть Червяков, и никакого воскресения. Как может быть бессмертной душа Тонкого, который встретился с Толстым и рассказывает ему про свою жену Луизу, лютеранку некоторым образом, и сына Нафанаила? Где там вообще бессмертная душа? Гораздо больше души, нежели в иных персонажей, у Чехова вложено в еду: вот где пир — «Сирена»! Поросеночек с хреном, рюмочки три запеканочки! И когда ему жаловались на бессмысленность жизни — он, холодно глядя из-под знаменитого пенсне, ледяным своим басом советовал поехать к Тестову да поесть селянки. И это хороший совет хорошего врача.
Просто ранний Чехов был молодой, здоровый и над всем смеялся.
Я иногда думаю, что было в Чехове нечто сверхчеловеческое — не зря жил он и работал одновременно с Ницше. О том, что XX век понимал сверхчеловечность ложно, написано более чем достаточно, но то, что предыдущий век обозначил некий предел в развитии человеческой природы и заставил ожидать эволюционного скачка — думаю, очевидно даже для тех, кто читал прозу и философию этого века самым поверхностным образом. Первый блин получился, разумеется, комом, но Чехов был из тех, кто обозначал предел, и обозначил его с предельной внятностью. С него началась литература абсурда, которая, в сущности, как раз и есть взгляд на человека со сверхчеловеческой точки зрения: «Жизнь насекомых», как называется роман одного из самых талантливых и прямых последователей Чехова.
Думается, именно поэтому абсурдисты чтили в Чехове родоначальника [2] О нем как о предтече абсурдистов см., например, работу В. Кошелева «Лег на диван и помер: Чехов и культура абсурда», а о том, как собственно это у Чехова делается, лучше других написал В. Гвоздей в книге «Секреты чеховского художественного текста».
, и немудрено, что самые глубокие слова о чеховском мировоззрении — без упоминания Чехова, естественно, ибо в предлагаемом отрывке автор занят самоанализом, — сказал Хармс в дневниковой записи от 31 октября 1937 года:
«Геройство, пафос, удаль, мораль, гигиеничность, нравственность, умиление и азарт — ненавистные для меня слова и чувства.
Но я вполне понимаю и уважаю: восторг и восхищение, вдохновение и отчаяние, страсть и сдержанность, распутство и целомудрие, печаль и горе, радость и смех».
Это почти стихи. И это именно о Чехове. Все перечисленное — от гигиеничности до морали — проходит по разряду пошлости, потому что сводится к следованию установленным образцам. Сейчас опять скажем ужасную вещь, но ничего особенно нового в ней нет — иное дело, что ею можно неправильно воспользоваться, но у нас ведь тут все свои. Вся так называемая мораль — как раз и есть свод правил и образцов, придуманных для самоуважения либо для борьбы за чужое уважение. Мораль у Чехова — это доктор Львов. Самовлюбленный, прямой, как палка, и отвратительно бесчеловечный тип. Мораль придумана для тех, у кого нет внутреннего самоограничителя, а у Чехова он есть. Кажется, само слово «мораль» было ему ненавистно, и потому единственное его сохранившееся стихотворение — пародия на басню.
«Шли однажды через мостик жирные китайцы. Впереди их, задрав хвостик, поспешали зайцы. Вдруг китайцы закричали: „Стой, лови их! Ах-ах-ах!“ Зайцы выше хвост задрали и попрятались в кустах. Мораль сей басенки ясна: кто хочет зайцев кушать, тот ежедневно, встав от сна, папашу должен слушать».
Хармс тоже любил пародировать басни. И тоже издевался над моралью. «Читатель, вдумайся в эту басню, и тебе станет не по себе».
Герои чеховской юмористики — именно те, чье поведение регулируется моралью, то есть безнадежно плоские, смешные, часто жестокие люди. Они не понимают высшего, музыкального смысла жизни, а потому поступают в соответствии с идиотскими правилами. Кто заглянет под эту оболочку и поймет вдруг, что жизнь устроена нелинейно, не по правилам, — сходит с ума, как Громов, или гибнет, как Рагин. А до того, как с ним это случилось, он был пошлый человек, да и Громов тоже. Чехов не приемлет в Толстом именно морали, плоской и линейной, и обожает художественную иррациональность. Поэтому Толстой «Душечку» — и героиню — обожает, видя в ней идеальную женщину, а Чехов над ней жестоко издевается, почти без сострадания, и рассказ у него смешной, только смешной по-чеховски. Интересно, что в рассказе ее не жалко (или уж жалко только особо сентиментальным читательницам), а в фильме Сергея Колосова с Людмилой Касаткиной (1966) жалко, потому что там она живая, ее видно, она стареет на глазах — в общем, не совсем те получаются чувства, которые желательны были Чехову. В «Вишневом саде» по строгому счету автора трогает один персонаж — Шарлотта, все остальные изъясняются более или менее законченными штампами (в том числе и автопортрет — Лопахин; глубокую внутреннюю линию в Лопахине сравнительно недавно проследил Минкин в очерке «Нежная душа», писали об этом и другие). Все отсюда, а Шарлотта не отсюда. «Мой ребеночек, бай, бай… Замолчи, мой хороший, мой милый мальчик. Мне тебя так жалко! ( бросает узел на место )».
Отсюда и аморализм — в мягкой формулировке имморализм, внеморальность — Чехова, которой не чувствует в нем только безнадежно глухой читатель. Корни этого аморализма — разумеется, не в том, что автор желает позволить себе больше, нежели предписывают ему общепринятые нормы, а в том, что чувствует относительность, искусственность этих норм, в том, что жизнь его управляется более сложными законами. Чеховский положительный герой — существо крайне редкое, трудно говорить о том, кто же на самом деле авторский любимец. Пожалуй, Гуров в «Даме с собачкой» да художник-повествователь в «Доме с мезонином», а самый любимый, интимный, — Дьякон в «Дуэли», наиболее яркий выразитель чеховского религиозного чувства, соединенного с эстетическим (а может, и тождественного ему).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: