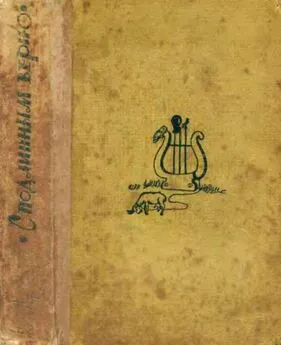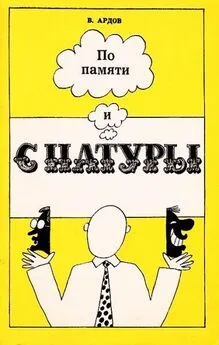Виктор Ардов - Этюды к портретам
- Название:Этюды к портретам
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1983
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Ардов - Этюды к портретам краткое содержание
Неплохой вклад в в бесконечный ряд воспоминаний о выдающихся представителях русской культуры
Этюды к портретам - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
И вот результат: в зале воцарилась та сверхтишина, которая свидетельствует о соборной взволнованности всех нас. Именно соборной, ибо одно дело — увлечь за собою одного слушателя, двух, малую группу… а другое дело — заставить затаить дыхание тысячу человек, среди которых мало ли какие настроения и характеры встречаются; мало ли какие обстоятельства личной жизни и тайные свои думы сию минуту имеются!.. А вот артист словно в один узел завязал всю тысячу зрителей и ведет за собою, куда ему велит автор и куда он сам желает вести.
А если бы Москвина слушал человек, не знакомый с русским языком, он, может быть, смеялся бы в эти минуты. Да, уж очень часто голос Москвина прерывался забавным и некрасивым визгом; его судорожные движения иностранцем тоже воспринимались бы как смешные: опытные комики так вот шаркают ногами и всплескивают над головою руками, желая изобразить, например, пьяного или испытывающего мелкие радости, мелкие удачи старичка. Мы-то, зрители Большого зала Консерватории, отлично слыша и понимая трагические реплики артиста, с замиранием сердца и с перерывами в дыхании внимали страшным словам Москвина — Мочалки. Но если не постигать дословно этот смысл, а только наблюдать нелепые и некрасивые жесты и движения, звуки фальцета, на который очень скоро после появления перешел артист; если слышать все эти взвизгивания и всхлипывания, хрипы и визгливые же стоны без того, чтобы суть дела прояснена была для ушей и глаз наблюдавшего? Неужели не захохотал бы иностранец? Неужели глухонемой не принялся бы смеяться?
Нет! — отвечу вам. Сто раз нет! Как ни свободен был Москвин от желания соблюсти «меру приличия и меру вкуса», изображая горе и тоску своего героя, огромная наполненность эмоциональная и наполненность мыслию — мыслями погибающего — погибшего уже человечка буквально зримо струилась ото всей его фигуры. И, безусловно, делалось понятным безмерное горе, лившееся на нас через рампу.
А когда в заключение сцены Москвин, отказавшись от денег, предложенных ему Алешей, бросал эти кредитки на пол, сперва топтал их ногами, а затем с громкими и горестными (и все-таки визгливыми) воплями бежал с авансцены к двери за кулисы, расположенной ой-ой как далеко от рампы, бежал, может быть, полминуты (гигантский срок для сценического действия, особенно в условиях если играется сцена «ан фрак» — по определению, принятому прежде), то зрители начинали аплодировать не ранее чем в тот момент, в какой согбенная и дрожавшая от аффекта спина артиста исчезла с наших глаз. Но зато уж и хлопали мы потом!
Прежде, нежели говорить о Москвине в роли Фомы Опискина, следует сказать несколько слов о непростой этой вещи, об ее истоках у Гоголя (да, именно у Гоголя) и мотивах постановки в Художественном театре.
Многими авторитетными исследователями (среди них первый — удивительно талантливый и еще сильно недооцененный ученый и беллетрист Ю. Н. Тынянов) основательно доказано, что под именем Опискина Достоевский вывел пи более ни менее как Н. В. Гоголя. Среди высказываний Опискина в повести «Село Степанчиково» имеются прямые цитаты из книги Гоголя «Избранные места из переписки с друзьями» (например: «Я знаю Россию, и Россия меня знает» и др.). Давно известно, что Достоевский был мастер сатирического, памфлетного даже, литературного портрета. Возьмите хотя бы карикатуру на И. С. Тургенева в «Бесах». Сам Иван Сергеевич признал, что писатель Кармазинов — шарж на него.
А в отношении Опискина надо сказать следующее: кто- то из современников Достоевского в мемуарах описывает званый вечер (в 40-х годах) с молодыми писателями у известного издателя А. А. Краевского, на который в числе подающих надежды молодых литераторов был приглашен на встречу с маститым Гоголем и Федор Михайлович. Мемуарист подробно описывает, как непозволительно сильно запоздал Гоголь, как он прошел в кабинет хозяина дома, не пожелав остаться в комнате, где его ждали «молодые». Впоследствии двух или трех человек «допустили» к Николаю Васильевичу, но в числе «избранных» Достоевского не было. Нет сомнения, что автор «Села Степанчикова» обиделся жестоко. И вот следы этой обиды. В тот вечер Гоголь отказался от ужина. Он заявил, что, пожалуй, сейчас выпил бы малаги. А малаги в доме не оказалось, свидетельствует мемуарист, и послали лакея в город покупать малагу, хотя было уже 10 часов вечера: магазины, естественно, были заперты! Так вот даже желание выпить малагу капризно высказывает Фома Опискин!..
Как зритель (правда, крайне молодой) смею свидетельствовать: спектакль получился очень сильный. Весь состав играл отлично. В роли Ростанева Н. О. Массалитинов был хорош и правдоподобен.
Нужно еще отметить, что К. С. Станиславский, сделавший инсценировку повести (вместе со своим литературным секретарем — драматургом В. М. Волькенштейном), намечал для себя эту роль. И он начал репетировать Ростанева. Но был снят с роли В. И. Немировичем-Данченко. Случай едва ли не единственный за всю историю Художественного театра. Очевидцы утверждают, что Константин Сергеевич был огорчен крайне, но подчинился решению Владимира Ивановича безоговорочно и сразу: настолько выше самолюбия была для великого режиссера дисциплина в театре…
Роль добродушного соседа исполнял В. Ф. Грибунин. Играл отлично в первом действии, где нет Опискина — Москвина. И по всегдашней своей манере сознательно «гасил» себя, как только появлялся на сцене Москвин (то есть со второго акта).
Племянника, прибывшего из Петербурга, играл В. Гайдаров. Он по всем данным подходил к роли столичного красавца, конфиндента и наперсника и как бы летописца событий. К сожалению, память не сохранила мне имена прочих исполнителей. Зато Москвина я словно вижу перед собой и сегодня — через пятьдесят пять лет…
Даже в обширной галерее ролей Ивана Михайловича, из коих столь многие удавались ему необыкновенно, роль Опискина принадлежит, на мой взгляд, к тем редким чудесам на сцене, что случаются раз в десятилетия.
Самая необычность характера, в котором соединяются и резко комические и драматические черты, небанальность этого образа у автора помогли Москвину создать фигуру поразительную. Все компоненты личности властного приживалы, то есть человека ничтожного социального положения и непомерного тщеславия, переданы артистом и обрисованы были убедительно и с огромной творческой фантазией. Не стану разбирать, что здесь создано актером, а что предсказано режиссурою. В том возрасте, в каком я смотрел спектакль, подобный анализ мне был не под силу. Да и вообще именно Немировича-Данченко отличало великое умение «умереть в актере». Перед нами — зрителями — шел спектакль Художественного театра, театра предельно слаженного ансамбля…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

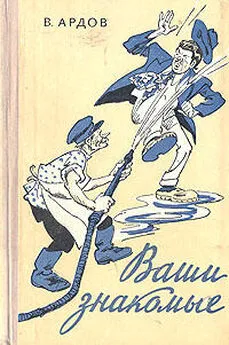
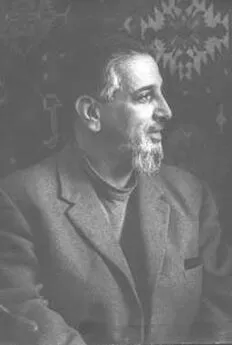

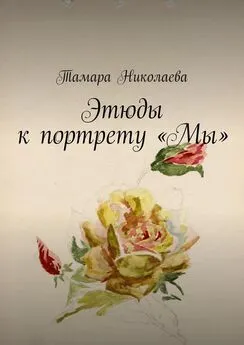
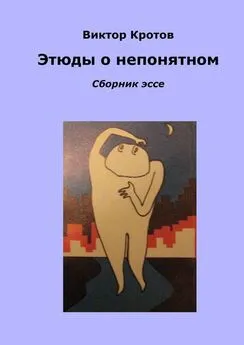
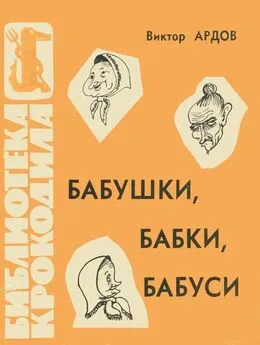
![Виктор Ардов - Терем-теремок [Юмористические рассказы]](/books/1074218/viktor-ardov-terem.webp)