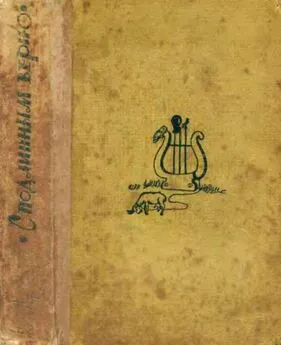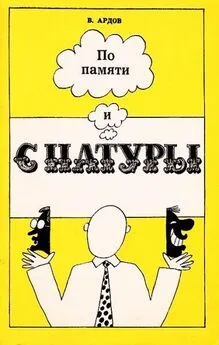Виктор Ардов - Этюды к портретам
- Название:Этюды к портретам
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1983
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Ардов - Этюды к портретам краткое содержание
Неплохой вклад в в бесконечный ряд воспоминаний о выдающихся представителях русской культуры
Этюды к портретам - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Внутри фабулы всей вещи — четкой и драматичной, как всегда у этого автора, — для Калеба было приготовлено еще много своих перипетий, обусловленных «святою ложью» ради дочери. О, сколь часто грозила старику его особая беда: девушка вот-вот узнает об истинном положении вещей. Помимо разочарования, помимо собственных огорчений у девушки появится тогда и такой повод для отчаяния: она поймет, как же тяжело было отцу скрывать от нее истину, как тяжело было ему не только переносить удары печальной судьбы, но и при этом делать вид, будто все обстоит благополучно!
Контраст между бодрыми репликами, обращенными к дочери, и понурым видом Калеба усиливался тем, что в позах и выражениях лица старик не стеснялся: ведь его не видела слепая девушка! Паузы задумчивости и вздохи, чередовавшиеся с шутками для обманываемой дочери, были воистину трагичны. И Калеб словами и взглядами приглашал друзей и знакомых поддерживать его обман. Что это были за взгляды! Выразительные серые глаза артиста, заполненные слезами, умоляли и требовали. Они сообщали не только другим персонажам, но и зрителям всю меру печали их обладателя.
Именно вот эту двойную и даже тройную игру, ибо в нее старик вовлекает и других персонажей, и я имею в виду, когда говорю, что Чехов переводил образ Калеба из клавиатуры Диккенса в клавиатуру Достоевского. Разумеется, сюжетные ходы роли были даны автором. Но довести их до стадии огромной человеческой глубины стало задачей актера. В этих сценах Чехов был откровенно сентиментален. И он имел на то право — не только по предначертаниям Диккенса, но и в силу той могучей театральной системы, которую исповедовал. Однако чуть-чуть «перегнуть» в такой роли, нажать или покрасоваться актерской находкой, мизансценой, позой, интонацией — и все рассыплется, зритель окажется у разбитого корыта «театра представлений», в котором и не такие «мелодрамиши» загибали гастролеры, не такие приемчики исторгания слез у глупого зрителя применяли…
Но в том сценическом чуде, которое называлось «Сверчок на печи», в Первой студии Московского Художественного театра, вовсе отсутствовала обыденная сценическая пошлость. И Чехов играл виртуозно. Зрители, между прочим, плакали — и плакали очень много. Но плакал подлинными слезами и сам старый Калеб…
Думаю, надо отметить, что Чехов не был чужд и концертной эстраде: он исполнял рассказы своего дяди; играл вместе с другими студийцами водевили; а я видел его в одном из скетчей А. Шнитцлера — из цикла «Анатоль и Макс». В этой миниатюре трое участников: герой — Анатоль, его друг Макс — оба молодые вертопрахи из Вены конца прошлого века; третья участница — очередная любовница Анатоля, молодая венка. Роли распределились так: Анатоль — Чехов, Макс — И. Н. Берсенев, девица — С. В. Гиацинтова. Содержание пьесы — тоже чисто венское.
У бойкого и галантного Анатоля есть, как сказано, «подружка», которая навряд ли надолго задержится в жизни преуспевающего франта. Но в данное время он ее любит и ревнует, так сказать, по соображениям гипотетическим: Анатоль предполагает невозможным, чтобы любовница ему не изменяла. Он судит по себе самому. И делится со своим другом соображениями: как бы заставить девушку сказать правду? Друг предлагает прибегнуть к гипнозу. И вот осуществлен этот замысел: девушка впала в состояние гипнотического сна. И можно бы ей задавать вопросы: ответы будут самые искренние… Но Анатоль струсил. Ему теперь кажется, что лучше неизвестность, нежели суровая правда… Он не желает твердо знать, что обманут! И героиню возвращают к состоянию бодрствования, так и не выяснив «жгучего вопроса»…
Конечно, ведущим персонажем миниатюры был Анатоль— Чехов. Он играл легко и водевильно, однако же вполне реалистически. Меня, помнится, поразило редкостное соединение искренности, психологической правды с быстрым ритмом почти шуточной вещи. И зрители смеялись не только в тех местах, где были расставлены ловушки для смеха автором, — тут тоже, конечно, звучал хохот зала. Но в иных репликах зал реагировал очень бурно на неожиданную наивность, которую обнаруживал в роли бывалого ловца наслаждений наш артист. По традиции такую роль следовало играть как роль обычного простака: именно фарсовый простак, а не любовник, ставит себя в смешные положения из-за искренности и всем понятной, всем известной психологической подоплеки молодого преуспевающего франта — из-за тщеславия, себялюбия, эмоциональной возбудимости и несдержанности, — они-то и делают его смешным, заставляют открывать для окружающих то, что принято таить в себе… Но Михаил Александрович вкладывал столько подлинной человечности в малые чувства и малый сюжет пьесы, что становилось жалко не слишком для нас симпатичного жуира. Да он и не был франтом — чеховский Анатоль… Но персонажем из рисунков венского или мюнхенского журнала представал перед нами русский актер. Очевидно, Чехова привлекала к миниатюре этой именно такая возможность: поглубже заглянуть в душу человека, пусть человека пустого и банального. Но банальность оказалась отброшенной исполнителем, а острая ситуация осталась…
Чехов вел себя удивительно наивно в шнитцлеровском скетче. Он с такой искренностью делился с другом своими ревнивыми подозрениями, что зрители жалели — кого? — венского фата! Но фата перед нами не было. Действовал, переживал, мучился живой и душевно раскрытый человек, мучился по причинам, понятным аудитории. И ему сочувствовали— Чехову всегда сочувствовали зрители! И нетерпеливые реплики Анатоля вызывали смех потому, что они наивно и трогательно выражали понятные всем помыслы и чувства персонажа…
Чехов был очень смешлив. И в его творчестве юмор занимал большое место. Я знаю, что на вечерах в своей студии Михаил Александрович даже конферировал. Конечно, и тут артиста интересовали не обыденные шутки и «репризы». Мне рассказывал, кажется, С. В. Образцов, что Чехов занял однажды перерыв между двумя номерами концерта таким монологом на две минуты:
— Пока переставляют декорации, я вам расскажу анекдот. Идет, значит, дама с собачкой. А навстречу ей — господин, тоже с собачкой. И вдруг эти собачки…
Тут артист останавливался, словно бы пораженный мыслью: дальше нельзя рассказывать, ибо то, что произошло между собачками, непристойно и опубликованию с эстрады не подлежит… После паузы колебаний Чехов выговаривал:
— Нет, пожалуй, я не буду этого рассказывать…
И смущенно уходил за занавес…
Был у Чехова еще один комический рассказ. О том, как провинциальный актер экзаменуется в Художественный театр. Чтобы обрести уверенность, актер выпил, но — переложил. И посему, когда ему надо представать перед синклитом знаменитых руководителей и корифеев МХАТа, экзаменующийся начисто забыл текст басни «Ворона и лисица», которую намеревался прочитать.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

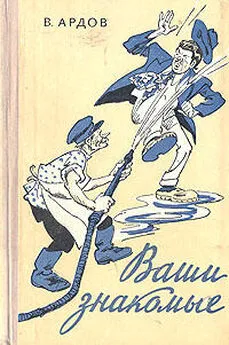
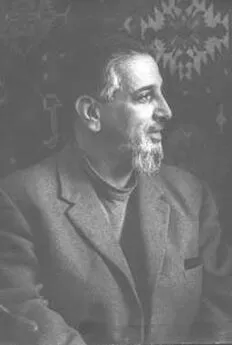

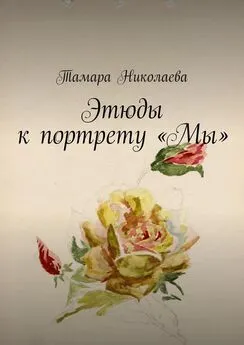
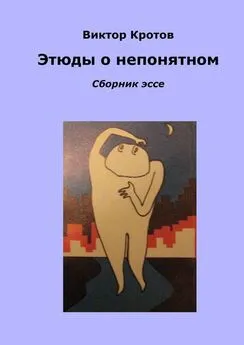
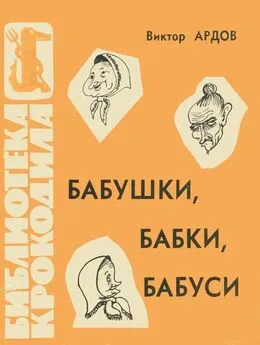
![Виктор Ардов - Терем-теремок [Юмористические рассказы]](/books/1074218/viktor-ardov-terem.webp)