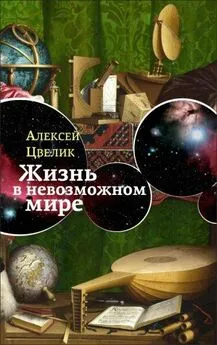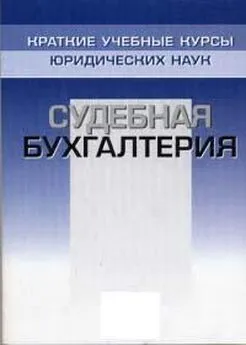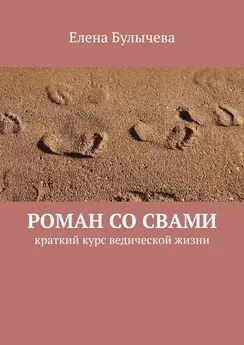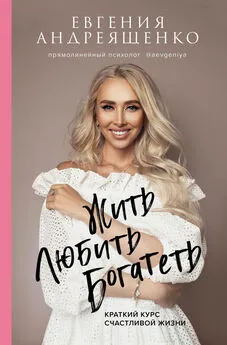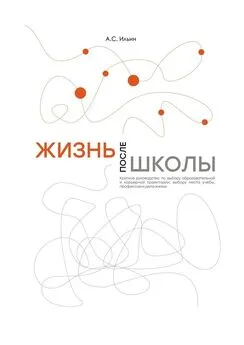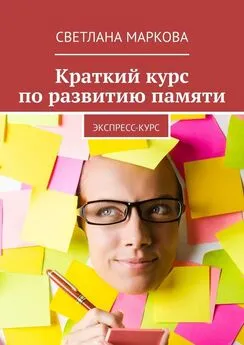Алексей Цвелик - Жизнь в невозможном мире: Краткий курс физики для лириков
- Название:Жизнь в невозможном мире: Краткий курс физики для лириков
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство Ивана Лимбаха
- Год:2012
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-89059-183-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Цвелик - Жизнь в невозможном мире: Краткий курс физики для лириков краткое содержание
Доказала ли наука отсутствие Творца или, напротив, само ее существование свидетельствует о разумности устройства мироздания? Является ли наш разум случайностью или он — отражение того Разума, что правит Вселенной? Объективна ли красота? Существует ли наряду с миром явлений мир идей? Эти и многие другие вопросы обсуждает в своей книге известный физик-теоретик, работающий в Соединенных Штатах Америки.
Научно-мировоззренческие эссе перемежаются в книге с личными воспоминаниями автора.
Для широкого круга читателей.
Современная наука вплотную подошла к пределу способностей человеческого мозга, и когнитивная пропасть между миром ученого и обществом мало когда была столь широка. Книга Алексея Цвелика уверенно ведет пытливого читателя над этой пропастью. Со времени издания книг Ричарда Фейнмана научно-популярная литература не знала столь яркого, прозрачного и глубокого изложения широкой проблематики — от строго обоснованного рассуждения об уникальности мироздания до природы вакуума.
Александр Иличевский
Жизнь в невозможном мире: Краткий курс физики для лириков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Проблема эта относится к разряду тех, что ныне входят в раздел физики сильно коррелированных систем. Конкретно проблема касается того, как микроскопическому магнитику, помещенному внутрь металла, удается до неузнаваемости изменить его свойства. Секрет богатырской силы этого малыша в том, что он шаг за шагом перестраивает организацию отношений между электронами металла таким образом, что в конце концов они начинают ему помогать. Такие эффекты называются в физике коллективными и чем-то напоминают то, что происходит в человеческом обществе.
На решение проблемы Кондо научная общественность потратила немало времени и сил. Занимались ею, например, такие гиганты, как Алексей Алексеевич Абрикосов. Вигман нашел совершенно оригинальное решение, позволявшее в принципе решить математическую модель, описывающую ситуацию, точно. И вот система из огромного (почти что бесконечного) числа дифференциальных уравнений решилась (без всякого компьютера), и полученный ответ выглядел вполне обозримо. Оставалось извлечь из этого ответа описание физических свойств системы, и в этой-то работе Павел и пригласил меня поучаствовать. Скажу сразу, что мы блестяще справились с задачей. Результаты наших усилий суммированы в довольно фундаментальном труде, на который продолжают ссылаться и тридцать лет спустя.
Для меня наградой за труды по точным решениям была работа в институте Ландау. О своем назначении я узнал довольно оригинальным образом. В ту пятницу, приехав в институт, в обычной предсеминарской коридорной толкучке я оказался позади Халата. Халат, даже не оглянувшись (в этом не было нужды, так как глаза на спине у него, как у директора института, тоже были), просто указал пальцем себе за спину и сказал стоявшему справа от него Ларкину: «Ты знаешь, Толя, что мы берем на работу этого парня?» Так началась моя карьера в институте. Это был 1983 год.
Вот еще характерная зарисовка тех лет: докторская защита Вигмана. Наш друг Шура Нерсесян прислал на нее из Тбилиси два ящика грузинского вина. На водке же Павел (тогда еще Паша) решил сэкономить и заказал нашему другу Леве Иоффе, бывшему тогда аспирантом Ларкина, нагнать самогону. Лева спросил его, сколько раз гнать цикл, и легкомысленный Паша сказал, что хватит и одного. В результате получившийся продукт смог пить только Саша Дюгаев по кличке Русский Бельмондо, а народ прятал недопитые рюмки под стулья.
Перейдя в институт, я стал теснее общаться с Сашей Белавиным. Саша учил меня конформной теории поля и началам теории струн. По четвергам он вел в черноголовском общежитии аспирантов семинар, начинавшийся в десять вечера, когда младший сын Саши укладывался спать, и продолжавшийся до тех пор, пока участники его не начинали клевать носом. У Саши была замечательная библиотека, набитая дореволюционными книгами, многие из которых нам тогда и не снились. Он собрал ее сам, путешествуя с рюкзаком по маленьким приволжским городкам (сам Саша из Нижнего Новгорода). Помню полку, на которой стоял полный комплект томов Еврейской энциклопедии. Статьи этой энциклопедии разительно отличались и по тону, и по уровню от статей советских. На другой полке стояли все девять томов Владимира Соловьева. Помню таинственную китайскую книгу «И Цзинь» («Книгу перемен»), содержащую в себе систему гадания и предсказания будущего, переведенную и прокомментированную учеником Рудольфа Штейнера Ю. К. Шуцким, погибшим в сталинских лагерях… Это было окном в иной мир, мир погибшей цивилизации, чья культура бесконечно превосходила ту, среди которой я вырос. Наверное, такие же чувства испытывал Петрарка, находя в монастырских библиотеках сочинения Цицерона. Впоследствии Саша стал моим крестным отцом. Появился тогда в моей жизни и еще один человек, о котором стоит рассказать отдельно.
Глава 6
Священный безумец
Георгий Васильевич (Жора) Рязанов был преоригинальнейшим человеком. Отец его природный русак, дважды Герой Советского Союза и сталинский генерал авиации, а мать — еврейка и истая коммунистка. Арестованный в 1936 году, отец просидел год под пытками, ничего не подписал и, может быть, потому, что его арест опередил главную волну террора, был выпущен на свободу. На вопрос Ворошилова о том, как с ним обращались в тюрьме, он ответил: «Как с врагом народа!» — что очень понравилось Сталину. После этого Василий Рязанов пошел вверх. После войны Жора провел некоторое время в оккупированной Советским Союзом Австрии, где охотился на озерах с отцовским «денщиком». Когда я познакомился с ним, от всего бывшего великолепия его жизни осталась квартира в «доме холостяков» в Большом Гнездниковском переулке, с трофейными австрийскими столиком и диванчиком.
Прости, читатель, я просто обязан сказать хотя бы пару слов о «доме холостяков». Это был один из первых высотных домов в Москве. Он был построен в 1913 году и задуман как обиталище состоятельных холостяков. Поскольку предполагалось, что холостяки не умеют готовить и не держат кухарок, а либо обедают в ресторанах, либо заказывают еду из трактиров, то кухни в квартирах не были предусмотрены. Квартиры по тем временам были небольшие, то есть состояли из одной огромной, пятиметровой высоты, комнаты и маленькой прихожей, ставшей при советской власти кухней. Критики считают, что Мастер встретил Маргариту напротив этого дома. Вполне возможно, так как в нем в начале 1920-х годов находилась редакция одного из разрешенных советской властью берлинских эмигрантских изданий, в котором Булгаков сотрудничал. Так что он часто посещал этот замечательный дом и вполне мог изобразить это место в романе.
В молодые годы Жора написал несколько замечательных статей по физике с вполне конкретными результатами, за что и был принят в институт. Однако к тому времени, как мы с ним познакомились, он давно уже интересовался вещами намного более общего характера. Мечтой Жоры было осуществить синтез науки и религии, и, признаюсь, он меня этой мечтой заразил.
Жора провозглашал себя последователем средневекового еврейского философа Мозеса Маймонида, который в своем труде «Путеводитель заблудших» (1190) написал следующее: «Нам нужно сформулировать концепцию бытия Создателя согласно нашим способностям. То есть нам нужно иметь знание Науки Бога, которое может быть приобретено только после того, как мы постигнем науку природы. Потому как наука природы тесно связана с Наукой Бога и должна предшествовать последней в процессе изучения. По этой причине Бог начал Библию с описания творения» (перевод мой. — А Д.). Из XIX века Маймониду вторит Владимир Соловьев: «Нераздельность религиозных и научных начал не есть только факт действительности, эта нераздельность необходима по существу дела, ибо невозможно, чтобы религиозный человек не мыслил о предмете своей веры, а ученый признавал свои общие принципы исключительно на основе строго научного исследования, так как это исследование требует некоторой веры — хотя бы веры в разум» («Критика отвлеченных начал»).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: