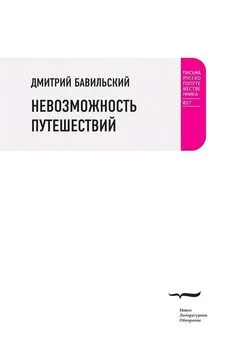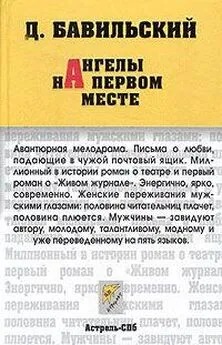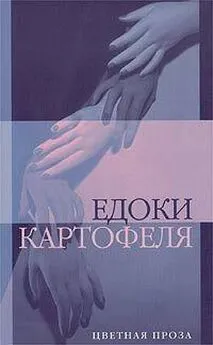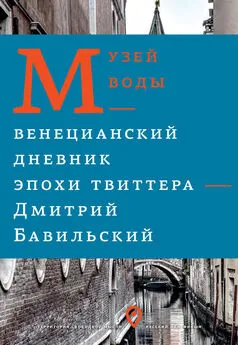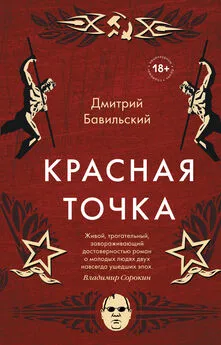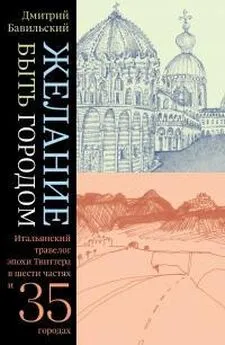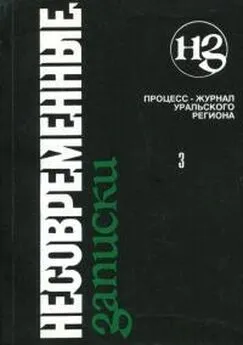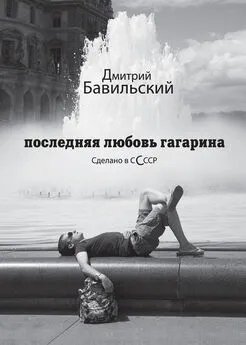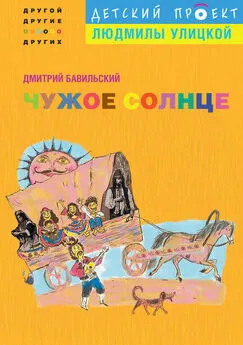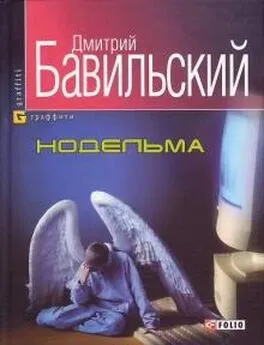Дмитрий Бавильский - Невозможность путешествий
- Название:Невозможность путешествий
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0325-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Бавильский - Невозможность путешествий краткое содержание
Книга Дмитрия Бавильского, посвященная путешествиям, составлена из очерков и повестей, написанных в XXI веке. В первый раздел сборника вошли «подорожные тексты», где на первый взгляд ничего не происходит. Но и Санкт-Петербург, и Тель-Авив, и Алма-Ата, и Бургундия оказываются рамой для проживания как самых счастливых, так и самых рядовых дней одной, отдельно взятой жизни. Второй цикл сборника посвящен поездкам в странный и одновременно обычный уральский город Чердачинск, где автор вырос и из которого когда-то уехал. В третьей части книги Д. Бавильский «вскрывает прием», описывая травелоги разных эпох и традиций (от Н. Карамзина и И.-В. Гете до Э. Гибера и А. Битова), которые большинству людей заменяют посещение экзотических стран и городов. Чтение — это ведь тоже путешествие и подчас серьезное интеллектуальное приключение.
Невозможность путешествий - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Филфак наш находится за зданием Теплотехнического института с огромным изображением ордена Победы на фасаде; в него упирается, точнее, от него начинается, главная торговая улица Чердачинска — улица Кирова (и здесь, между прочим, уходит под землю один из самых первых, как по старшинству, так и по стратегической значимости, городских подземных переходов с массой рукавов и выходов), трамвайными путями, протяженной перспективой тянущаяся до площади Революции (если смотреть вдоль Кирова).
Или же, если смотреть вдоль проспекта Победы, то, глядя в сторону Сибири, начинающейся за железнодорожным мостом, можно увидеть Ленинградский мост, чуть погодя упирающийся в железнодорожный мост, стоящий параллельно улице Российской, на которой я прожил какую-то часть своей жизни.
Если же посмотреть в сторону Северо-запада, то не увидишь ничего, кроме холма, исполосованного шоссе, которое скатывается вместе с медленными трамваями к самому началу описываемого перекрестка.
Когда-то Е. В. Александров, главный архитектор советского Чердачинска, озаботился нарастанием в нашем миллионном «промышленном и культурном» центре «кризиса вертикали», из-за чего на вершине плавного холма, ни к селу ни к городу (точнее, спиной к автомобильному училищу, лицом к Сибири) воткнули невзрачную многоэтажку.
Я не знаю, зачем я столько подробно объясняю структуру этого перекрестка, а затем буду пытаться дотошно вложить в голову того, кто читает, карту-схему поселка автоматно-механического завода (АМЗ), но оно так нужно. Тем более если речь идет о пространстве.
Речь о пространстве
Что можно ощущать в обычном городе, лишенном какой бы то ни было культурно-исторической аффектации? Деревни, сгоревшие в истории нынешних кривоногих улиц, ничем таким особенным не отличались и не блистали; Марату Гельману с Чердачинском было бы труднее возиться.
Хотя если вокруг нет ничего, что тянуло бы на туристический пунктум, пунктумом становится, может стать все что угодно — само это вещество повседневности, равномерно (или, напротив, комочками) распространенная каша стадиума.
Кроме того, ты сам становишься пунктумом, сам становишься центром, начиная сплетать вокруг себя стихийную поэму без героя (еще Фуко наглядно показал, как наблюдатель выводит себя за скобки наблюдения и наблюдаемой системы), накапливая эти едва осязаемые (изнанкой затылка) впечатления.
Я убежден, что в эпоху тотальной симулякризации и подмен единственное, что невозможно подделать (единственное, что тебе не изменит) — ощущение и переживание каждого конкретного пространства, в котором ты участвуешь — или же которое участвует в тебе (и тогда ты точно есть).
Время, как сказал Иосиф Бродский, есть голод; им невозможно насытиться; не то что пространством, выигрывающим у кино и театра, а теперь уже даже и у книг.
Пространство — это то единственное, ради чего мы путешествуем (или же сидим дома).
То, что труднее всего описать и еще труднее забрать с собой.
То, что не заменит любые творческие результаты, но подменит их.
То, что все еще непредсказуемо (и, пожалуй, единственное непредсказуемое произведение рук человеческих или их устраненности) и не рассчитано, а потому все еще интересно.
Поэма без героя
А так как мне бумаги не хватило, то я пишу на черновиках чужого пространства (ревматическими трамвайчиками, «икарусами» с подагрой), отутюженного общественным транспортом и изъезженного подержанными иномарками.
Кому принадлежат улицы и переулки?
Площади и перекрестки?
Всем, кто тут ходит, — и никому.
Видите ли, отныне, для того чтобы начать свой «Выбор натуры» или «Путешествие в маленькую страну», мне уже не нужно никуда ездить — все есть здесь, все рядом.
Все там, где ничего нет. Где ничего не видно (глаз замылен) — и где смысл открывается навстречу пытливому взгляду.
Сначала и затем был романтизм с «побегом энтузиаста» в экзотические обстоятельства, потом, соответственно, «экзистенциализм» с бесконечным падением в шахту безвинного «я»; ныне же и вовсе кто в лес, кто по дрова, все личные переживания связываются с вписанностью или невписанностью тебя как тела (тела как тебя) в тот или иной поворот ли, изгиб ли индивидуальной судьбы.
После занятий мы выходили из гуманитарного корпуса, шли к подземному переходу у Теплотеха и, опускаясь ниже уровня земли, словно входили в теплый бассейн всеобщей осмысленности.
Романное пространство включалось едва ли не автоматически, со временем отпала необходимость даже и щелкать пальцами или обмениваться взглядами, мыслями и жестами.
Ты точно плыл вместе с городом навстречу весне и даже лету, которое выглядывало, подобно соседней многоэтажке или реке, скрытой за близлежащим многоквартирником, точно так же, как из-под пятницы выглядывает суббота.
Вот что важно — нынешнее чтение не сильно потворствует беллетристике. Возможно, оттого, что все сюжеты и все инварианты сюжетов вызубрены последним двоечником, возможно, потому, что время ныне такое — не то чтобы бессобытийное, ну уж точно не трагическое. Зря, что ли, трагедии нынче не пишут. И даже драмы, у всех одинаковые, типовые, точно квартиры (порционные), спешат прикидываться мелодрамами.
Читателю скучно следить за сюжетом, он и сам тебе может наворотить такое, что мало не покажется; мысль-то у него, у читателя, вперед фабулы спешит и любое сюжетостроение обгоняет, отвлекаясь на поворотах в сторону себя, своих дел, своего существования.
Вот я и подумал — чем множить сущности искусственные да искусные, не проще ли просто обозначить место для наррации, которое каждый может заполнить героями «по собственному вкусу».
Языковое расширение Чердачинска
Советские города почти никогда не растут естественным образом, без насилия объединения и обобществления окружающего пространства.
Чердачинск, вытянувшийся вдоль дорог, не исключение; однако здесь дороги не объединяют территорию, но разрывают ее на фрагменты. На лоскуты.
Сложные, навороченные остановки общего транспорта, к которым в Чердачинске какая-то особая тяга, схожи со средневековыми крепостями, объединяющими в себе функции защитных сооружений, форпостов цивилизации и общественно доступных трактиров.
Сидя в троллейбусе, спотыкающемся о реконструируемые и перестраиваемые дороги, я почти физически ощущаю, как город мстит насильственному объединению, устраиваясь поудобнее и делясь, четвертуясь на поселки, посады и слободы, улицы и кварталы.
Все эти объединения, вырастающие естественным, органическим путем, ныне, уже в постсоветскую эпоху, вымываются — снос ветхости и деревьев, а также расширение дорог являются косвенным тому свидетельством, лишая Чердачинск последнего вещества уюта, накопленного за годы стабильности и застоя.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: