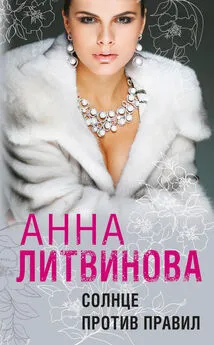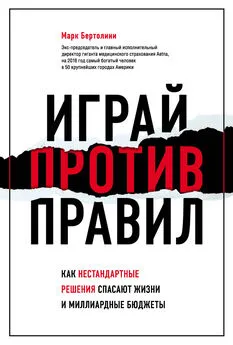Никита Елисеев - Против правил (сборник)
- Название:Против правил (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Геликон»39607b9f-f155-11e2-88f2-002590591dd6
- Год:2014
- Город:СПб
- ISBN:978-5-93682-974-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Никита Елисеев - Против правил (сборник) краткое содержание
В сборнике эссе известного петербургского критика – литературоведческие и киноведческие эссе за последние 20 лет. Своеобразная хроника культурной жизни России и Петербурга, соединённая с остроумными экскурсами в область истории. Наблюдательность, парадоксальность, ироничность – фирменный знак критика. Набоков и Хичкок, Радек, Пастернак и не только они – герои его наблюдений.
Против правил (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Мама Стратановского была переводчицей с французского. Хрупкая, интеллигентная женщина. Давид Самойлов, друживший с ней, придумал ей прозвище: Коломбина. Коломбина Коломбиной, но ее вместе с мужем, Георгием Стратановским полуживыми вывезли из блокадного Ленинграда. Сергей Стратановский родился в крестьянской избе, где Коломбине пришлось управляться с ухватами, ушатами и прочими неподъемными предметами быта. Последней ее переводческой работой были речи Сен-Жюста, одного из вождей Великой французской революции, убежденного левого экстремиста.
Вот и соедините классическую ученость, камеру пыток, блокаду, хрупкость Коломбины, деревенский быт и грозные речи Сен-Жюста – получится поэт Сергей Стратановский. Первое свое стихотворение он написал в 1969 году. Это было фантастическое шестистишие о тыкве-людоедке.
Тысячеустая, пустая
Тыква катится глотая
Людские толпы день за днем
И в ничтожестве своем
Тебя, о тыква, я пою
Но съешь ты голову мою
Каких только интерпретаций не было у этой миниатюры. Вспоминали знаменитое «Отыквление» императора Клавдия, придуманное Сенекой, шагающие деревья-убийцы из фантастического романа Уиндема Льюиса «День триффидов», оживающие растения из ранних стихов Николая Заболоцкого. Писали даже о пародии на предсмертную оду Державина «Река времен в своем стремленье уносит все дела людей…» У Державина образ всепожирающего времени – река. У Стратановского – тыква. А чему же еще и посвящать стихи, как не времени? Сам же поэт уверяет, что тыква-людоед прикатилась к нему из африканского фольклора. В самом первом стихотворении Стратановского ярче всего видна его характерная и не очень обычная для лирического поэта особенность. Он любит и умеет выдумывать. Он ценит сюжет.
Потому его так притягивает фольклор. Настоящий, древний, неприкрашенный. Не только открытым, явным, явленным трагизмом, но сюжетностью.
На ладье лебединой,
По реке долгой, длинной,
на север, лесами обильный,
Русский князь – витязь сильный —
К Вяйнямёйнену старому
приплыл со своей дружиной.
И сказал русский князь:
«Помоги нам, кудесник старый,
Бьют нас татары,
жгут наши села и нивы,
Города разоряют,
лучших людей в плен уводят…
И мы просим тебя, заклинатель старый,
Послужи нам силой своей волшебной,
Знаю, можешь ты словом мощным
Мор наслать на народ искони враждебный».
И ответил ему Вяйнемёйнен старый:
«Слово лечит, а не губит,
слово строит, а не рушит.
Словом я ковал железо, словом я ладью построил,
Но убить не смеет слово
никого на целом свете.
Я пойду к тебе на службу, русский князь,
Только воином обычным в твое войско,
Ибо сила моя тяжела мне стала,
И хочу сойти я к смерти,
к Туонелы водам черным».
«Жаль», – ответил ему русский князь.
Это из новой книги Стратановского «Оживление бубна», собрания легенд и мифов чуть ли не всех народов России, за исключением русского. В русское море у него сливаются не славянские ручьи, но азиатские, лесные, степные, финно-угорские, тюркские реки. Продлевая метафору, скажем – не реки, но океан. Россию, ее бессловесную, подспудную культуру питает побежденное, но не уничтоженное язычество давным-давно покоренных народов – вот тема «Оживления бубна». Оно, это язычество, приобретает странно-христианские черты, именно потому, что оно – побеждено. Оно – слабо. Тогда как в победившем христианстве обнаруживаются жестокие, языческие черты. Ибо христианство – религия слабых, преследуемых, гонимых, побежденных, а не победителей; религия бедных катакомб, а не богатых храмов:
Корнелапые чудища,
с говорящей листвой,
сердцем бьющимся —
вот человекодеревья.
Не осталось их ныне:
переродились иные,
Стали просто деревьями,
а другие – из леса в кочевья
Ночью тайно ушли
от неверных людей, что крестились
В чужеземную веру.
Но осталась в лесу
не ушедшая с ними рябина,
Потому что любила
молодца из деревни, охотника.
Ну а он испугался.
В церковь пошел он, к попу,
рассказал про бесовское дерево.
Разъярился наш поп
и велел изрубить топором
Эту нечисть лесную.
Криком кричала она,
и до сих пор этот крик
Ночью слышен бывает
Убитое – живо. Чем более оно убито, тем более оно – живо. Оно вошло в душевный состав убийц. Это – давняя, пугающая тема Стратановского. Тема изгнанных, уничтоженных богов, которые остались – неназываемые, неназванные, но уже непобедимые:
Истреблением племени
Вечно враждебного
мы запятнали свой путь
Сквозь века и народы
И вот теперь наши внуки
на высотах, навеки утративших
Имена изначальные,
поклоняются ночью, таясь,
Их богам, воскресающим каждую ночь
Тоже, знаете ли, сюжетный поворот, все равно как в стихотворении о русском князе и финском колдуне последняя фраза. Она волит некоего продолжения, которое каждый длит в меру своего душевного склада. Кому представится, что князь убьет колдуна – кто его знает, может, враги уговорят старичка применить сверхоружие? Кто вообразит себе князя, разворачивающего коня, – не вышло… А кому-то придет в голову, что князь махнет рукой: «Ладно, иди добровольцем в ряды моих войск»… Во всех случаях современное вежливое «жаль» в устах древнерусского воина – уместная неуместность – собственное клеймо поэта.
Оно вклинивается в текст древности из другого мира, из интеллигентной беседы, вестерна, детектива и вновь, как и всегда у Стратановского, обнаруживает архаику в современности, современность в архаике. В этом финальном «жаль» – бормотание времени, которым так сильна поэзия Стратановского. Не шум времени, но бормотание, сбивчивое, обрывающееся на полуслове, а все одно – явленное.
Слушай, боль и больница
не должны заслонять горизонт,
Пусть счастливые лица
и нам улыбнутся с экрана
Пусть начнется реклама,
завертится жизнь-карусель,
Предлагая товары,
добротные, нужные всем
Пусть обрадуют взор
чудо-печи и лучшая пицца
Рекламируют специи,
рекламируют мебель из Греции
То на фоне Олимпа,
то на фоне Афин рекламируют…
Что ж… Будут деньги – мы купим
Тени стихов
(Геннадий Алексеев. Избранные стихотворения)
Верлибр напоминает подстрочник каких-то очень хороших стихов, написанных на неведомом никому, может, инопланетном, может, потустороннем языке.
споткнувшись о порог
у входа в мир иной
не чертыхайся.
Верлибры невозможно цитировать не целиком, как невозможно цитировать или пересказывать хорошие детективы. Верлибры невозможно анализировать, как невозможно анализировать хорошие шутки и притчи. Пожалуй, да: из всех прозаических жанров к настоящему верлибру ближе всего детектив, притча, анекдот, шутка. Настоящий верлибр держится на том же, на чем и всё перечисленное, – на ожидании, каким же образом автор вывернет, как разрешит заданную загадку.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
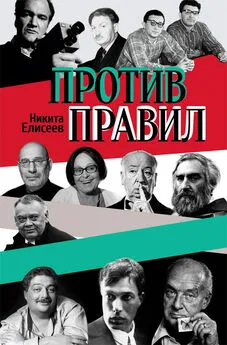

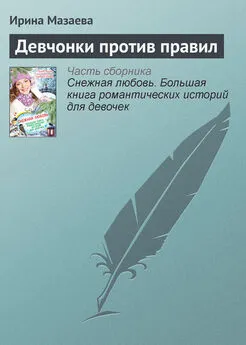

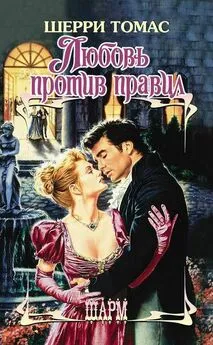
![Никита Елисеев - Блокадные после [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1145010/nikita-eliseev-blokadnye-posle-litres-s-optimizir.webp)