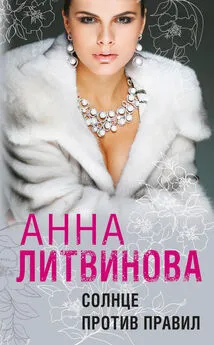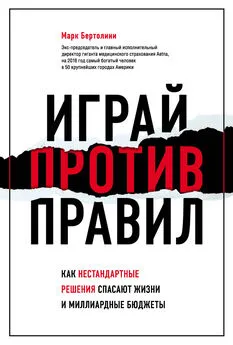Никита Елисеев - Против правил (сборник)
- Название:Против правил (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Геликон»39607b9f-f155-11e2-88f2-002590591dd6
- Год:2014
- Город:СПб
- ISBN:978-5-93682-974-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Никита Елисеев - Против правил (сборник) краткое содержание
В сборнике эссе известного петербургского критика – литературоведческие и киноведческие эссе за последние 20 лет. Своеобразная хроника культурной жизни России и Петербурга, соединённая с остроумными экскурсами в область истории. Наблюдательность, парадоксальность, ироничность – фирменный знак критика. Набоков и Хичкок, Радек, Пастернак и не только они – герои его наблюдений.
Против правил (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Как много смыслов заталкивает тут двадцатипятилетний вершитель истории в ее истолкование. Почему «сущее слишком разумно, чтобы быть уничтоженным» (перетолкованный афоризм Гегеля)? И почему эта форма приверженности встречается у «людей чисто советской выделки»? Потому что «сущее» – советская власть, социализм – не выросло органично, естественно, но выстроено, построено в согласии с человеческим разумом, в согласии с чертежами революционеров, отвергших другое сущее, другую действительность – неразумную и недействительную. «Вторая форма приверженности к сущему» тоже словно бы выводится из гегелевского тезиса, но по-другому. Разумное – разумно, поскольку действительно. Здесь главное – не революционный интернационалистский разум, но консервативное, патриотическое чувство, вера в «пружинные качества своего народа».
Уже в пору написания «Записок…» Слуцкий, как видно, считал одной из своих поэтических и идеологических задач – синтез двух этих форм «приверженности к сущему». Позднее он дал этот поэтический синтез «революционного разума» и «консервативного чувства» в своей балладе «Кульчицкие – отец и сын». Баллада посвящена другу Слуцкого, молодому поэту Михаилу Кульчицкому, и его отцу, Валентину Кульчицкому, старому офицеру, литератору, автору истории Сумского драгунского полка, оды на рождение царевича Алексея, книг по офицерской этике, после революции – харьковскому адвокату, сосланному в 1935-м на строительство Беломорканала, потом вернувшемуся в Харьков. Название отсылает к роману Тургенева «Отцы и дети», то есть намекает на конфликт поколений – консервативного и революционного. Так что кажется, что речь в балладе пойдет именно об этом – о разрыве семейных связей. Тема чрезвычайно распространенная в ранней советской беллетристике, идеологии, пропаганде. Но Слуцкий наполнял штампы пропаганды жизнью: взрывал изнутри. Итак: «Кульчицкий-сын по праздникам шагал / В колоннах пионеров. Присягал / На верность существующему строю (человек «чисто советской выделки». – Н. Е .). / Отец Кульчицкого – наоборот: сидел / В тюряге, и угрюмел, и седел, / Супец – на первое, похлебка – на второе. <���…> Кавалериста, ротмистра, гвардейца, / Защитника дуэлей, шпор певца / Не мог я разглядеть в чертах отца, / Как ни пытался вдуматься, вглядеться». Слуцкий ведет предполагаемого советского читателя по линии клишированного сюжета, чтобы завершить внезапным неожиданным финалом – слиянием «двух любовей» – революционной и консервативной: любви к будущей Земшарной республике Советов и любви к родному пепелищу, к отеческим гробам. «Наверно, яма велика войны! / Ведь уместились в ней отцы, сыны, / Осталось также место внукам, дедам. / Способствуя отечества победам, / Отец – в гестапо и на фронте – сын / Погибли. Больше не было мужчин / В семье Кульчицких…» Баллада, начавшаяся как поэтический рассказ о конфликте поколений, кончается их едва ли не космическим примирением: «Да, каждому, покуда он живой, / Хватает русских звезд над головой, / И места мертвому в земле российской хватит».
Оппозиция «русское небо» (русская революция, русская литература) и «русская земля» (традиция, быт, исторические корни) занимала Слуцкого всегда; но первый набросок развития этой темы он дал в своих «Записках…». То, что было сформулировано в первой их части как сочетание несочетаемого – интернациональной революционности (чисто советской выделки) и русской патриотической традиции, – парадоксально и органично сочетается в главке «Белогвардейцы», посвященной русским эмигрантам в Сербии, с которыми встретился майор Слуцкий. (Недаром в этой главке Илья Николаевич Голенищев-Кутузов, поэт, медиевист, участник сербского Сопротивления, своей «офицерской стародворянской обходительностью» заставляет Слуцкого вспомнить о друге и едва ли не учителе – Михаиле Кульчицком.) Здесь советский майор, интернационалист, «инородец» (еврей) с уважением (почти с восхищением) смотрит на осколки, обломки дворянской офицерской России – причем не только на большевизанов из белградского ССП (Союза советских патриотов), но и на врагов, заслуживших партизанскую революционную ненависть: «Здесь сформировался Русский охранный корпус… с офицерской уважительностью в обхождении, корпус, из которого (сербские. – Н. Е. ) партизаны не брали пленных – расстреливали поголовно. <���…> Не случайно именно здешние юнцы из кадетского корпуса лезли на наши пулеметы на дунайских переправах». И в Союзе советских патриотов Слуцкого привлекает староофицерское, дворянское: «Эти люди не напоминали мне ни один из вариантов интеллигентских сборищ в Советском Союзе. Сдержанность, ощущение старой культуры заставляли отвергнуть и сопоставление со сходками народовольцев. Скорее всего, это были декабристы, декабристы XX века». Самое любопытное в этой главке, что «интерференция» происходит с двух сторон. На советское, революционное, победившее немецкую агрессию с уважением, едва ли не с восхищением смотрят дворяне – стараются перенять что-то сильное, без интеллигентских «мерихлюндий» и «особой уважительности в обхождении» – то, что обеспечивает победу. «Нас всё пугали: НКВД, НКВД, а теперь я бы сам пошел работать в НКВД», – так говорил граф И. Н. Голенищев-Кутузов. Арестованный в 1948 году югославским НКВД, он уже вряд ли согласился бы с этими своими словами (как постаревший Слуцкий вряд ли согласился бы со многими страницами своих «Записок о войне») – но то был момент «энергии заблуждения».
Такое соединение, такой синтез – условно говоря, Деникина и Троцкого – могли бы показаться дюжинным национал-большевизмом, «сменовеховством» навыворот, если бы помимо идеологических схем, поверх них, а иногда и против них в Слуцком бы не работал удивительный поэтический инстинкт, мудрость наблюдателя, «с удовольствием катящегося к объективизму». Он старается запомнить детали. Детали «прокалывают» идилличность идеологической схемы. Что-то оказывается не так в слиянии «русского неба» и «русской земли». Слуцкий описывает подготовку к первому легальному собранию ССП, которое должно состояться в бывшем Русском доме, принадлежавшем русской эмигрантской колонии Белграда: «В зале шел поспешный пересмотр портретов. Без прений выбросили Николая Александровича, его отца и прадеда. Помешкали над Александром Вторым Освободителем и Александром Первым Благословенным. В конце концов уцелели Петр, Суворов, Ермолов. На стенах остались огромные прямоугольные пролежни, странно напоминавшие 1937 год». В социальное сознание советского человека 1937 год еще не вошел четко проартикулированным символом беды, ужаса. 1937 год еще остается в подкорке, в подсознании – как символ чего-то зловеще связанного с болезнью, с обездвиженностью, «…огромные прямоугольные пролежни». Этот образ и это уподобление свидетельствуют о том «мировом неуюте», который начинал чувствовать Слуцкий. Собственно говоря, уже в 1945–1946 годах он не мог не видеть, что та, «первая», «форма приверженности к сущему», в которой выделял он рационалистические, «разумные» черты, как раз и оказалась наиболее донкихотской, идеалистической, более всего оторванной от действительности. Недаром в своих «Записках о войне», рассуждая об оккупации, Слуцкий пишет об «изменах председателей горсоветов» (практиков, прагматиков) и о верности «прекраснодушных идеалистов» вроде сельских учителей или «старого рабочего, рядового участника 1905, 1917 годов». «Сущее слишком разумно, чтобы стерли его немцы в четыре месяца». Но немцы стирали это сущее. Слуцкий в прозе оставляет «знаки» этого «стирания»: «под корень вырубались целые народы», «публичное прощение пассивизировавших себя коммунистов», «газеты, где печаталась Зинаида Гиппиус», «перевод всех советских железнодорожных рельс на европейскую колею». В поэзии Слуцкий дает потрясающий образ «человека чисто советской выделки», уверенного в незыблемой разумности сущего и потрясенного тем, как происходит «стирание в четыре месяца» этого сущего.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
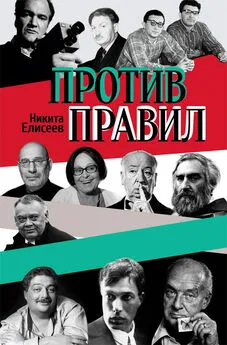

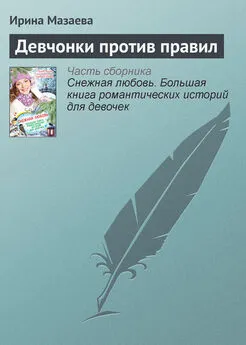

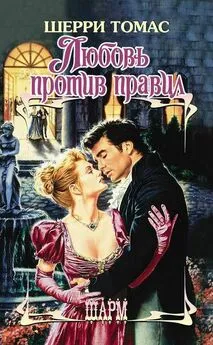
![Никита Елисеев - Блокадные после [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1145010/nikita-eliseev-blokadnye-posle-litres-s-optimizir.webp)