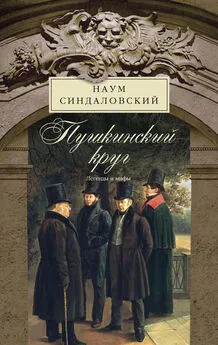Наум Синдаловский - На языке улиц. Рассказы о петербургской фразеологии
- Название:На языке улиц. Рассказы о петербургской фразеологии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЗАО Издательство Центрполиграф
- Год:2010
- Город:Москва - Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-227-02314-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наум Синдаловский - На языке улиц. Рассказы о петербургской фразеологии краткое содержание
В новой книге Наума Синдаловского собраны пословицы, поговорки, каламбуры, чье появление связано с Петербургом. Некоторые из них восходят к первым годам существования города, но бытуют в речи петербуржцев и по сей день. Фольклор предлагает нам свою историю города и его жителей, в которой политические и культурные события соседствуют с деталями повседневного быта. Равно актуальные для фольклора, они с разных сторон характеризуют несколько эпох развития государства и массового сознания.
На языке улиц. Рассказы о петербургской фразеологии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Между тем век петровских ассамблей оказался недолог. После смерти Петра I они начали утрачивать свою роль одной из форм делового общения. Постепенно ассамблеи превратились в церемонные великосветские танцевальные балы, которые преследовали чисто развлекательные цели. Последний такой бал состоялся в Зимнем дворце накануне Первой мировой войны.
В 1843 году в Петербурге по проекту выпускника Института путей сообщения Станислава Валериановича Кербедза начали возводить первый постоянный мост через Неву. Строительство велось в исключительно сложных условиях коварной глубоководной реки и опасного болотистого грунта. Несколько тысяч человек были заняты на забивке свай. Петербуржцы реагировали на это строительство, из уст в уста передавая расхожую фразу, которую с удовольствием приписывали одному из питерских остроумцев князю А. С. Меншикову: «Достроенный Исаакиевский собор мы не увидим, но дети наши увидят; Благовещенский мост мы увидим, но дети наши не увидят; а железной дороги ни мы, ни дети наши не увидят». Эти три гигантские стройки в то время велись одновременно, и мало кто верил в их успешное окончание. Косвенное подтверждение непредсказуемых трудностей, выпавших на долю строителей первого постоянного моста, можно увидеть в широко распространенной в Петербурге XIX века легенде. Рассказывали, что Николай I, понимая сложность и необычность строительства, распорядился повышать Кербедза в чине за возведение каждого нового пролета. Узнав об этом, Кербедз пересмотрел проект и увеличил количество пролетов. И действительно, начав сооружение моста в чине простого капитана, Кербедз закончил его в генеральском звании.
Мост был назван Благовещенским, по одноименному собору, стоявшему на нынешней площади Труда. В 1855 году, после кончины императора Николая I, мост был переименован в Николаевский. Архитектор А. И. Штакеншнейдер построил на нем часовню Святителя Николая Чудотворца, которую в народе называли «Николай на мосту». В 1930 году часовню снесли. К тому времени она превратилась в склад лопат и метел мостового уборщика. Среди ленинградцев в те годы ходило поверье, что Николай Угодник время от времени посещает свою питерскую обитель, благословляя и молясь за страждущих. Многие уверяли, что «сподобились» видеть лик святого.

Николаевский мост со стороны Английской набережной. Л. Ж. Жакотте и Гегаме по рисунку И. И. Шарлеманя 1850-е гг.
В 1918 году мосту присвоили имя лейтенанта Шмидта. Между прочим, по одному из проектов того времени памятник руководителю севастопольского восстания 1905 года Петру Шмидту собирались установить посредине моста, на месте снесенной часовни.
Мост исправно служил городу более 70 лет и только в 1930-х годах был подвергнут коренной реконструкции. Собственно, это была даже не реконструкция, а возведение нового моста с центральным разводным пролетом на старых устоях. Во внешнем оформлении были сохранены только перильные ограждения, выполненные по рисункам Александра Брюллова. Новый мост сооружался по проекту видного петербургского инженера-мостостроителя Г. П. Передерия, что, в свою очередь, вызвало новый всплеск творческой активности ленинградских пересмешников. Родился беззлобный каламбур, до сих пор сохранившийся в арсенале городского фольклора: «Передерий передерил».
И в наши дни мост продолжает жить в городской мифологии. В 1960-х годах его облюбовал для ежедневных утренних рыбалок известный актер Николай Черкасов. В театральных кругах его так и называли: «Оккупант моста Лейтенанта Шмидта». В конце 1980-х — начале 1990-х годов, в пресловутую пору перестройки, когда над Петербургом всерьез нависла угроза нехватки продовольствия, прошел слух, что некая японская фирма готова приобрести мост Лейтенанта Шмидта и выставить его в музее как памятник технической мысли XIX века. Якобы мост предполагалось разобрать и по частям перевезти на Японские острова.
В последнее время петербуржцы с недоумением наблюдают за возвращением в нашу жизнь символов и атрибутов ушедшей в прошлое социалистической эпохи. То новый государственный гимн со старым текстом известного «гимнюка» Сергея Михалкова, то красные звезды в символике армейских знамен новой России. Внес свой вклад в этот сомнительный процесс и петербургский городской фольклор. Вот текст постановления губернатора Петербурга: «В связи с Указом Президента о посмертном присвоении за особые заслуги перед отечеством лейтенанту Шмидту воинского звания капитана 3 ранга, мост Лейтенанта Шмидта в Петербурге переименовать в мост Капитана 3 ранга Шмидта».
В России понятие лейб-гвардии, то есть личной, императорской гвардии, впервые появилось в 1690-х годах. Ее название было заимствовано из Германии и в буквальном переводе означает: leib — тело и gward — охрана, а в смысловом — королевская охрана, или царская стража. Первыми воинскими подразделениями, получившими такое название, стали Преображенский и Семеновский полки. Свою родословную они ведут от так называемых «потешных полков», собранных Петром еще в пору юности из сверстников из двух подмосковных сел — Преображенского и Семеновского. Уже в 1697 году эти полки выполняли роль личной охраны государя. Так, во время Великого посольства в Западную Европу Петра сопровождал караул из 62 преображенцев.
К середине XIX века в Петербурге постоянно находились двенадцать кавалерийских и пехотных гвардейских полков, казармы которых, составляя мощный резерв сил внутренней безопасности царского двора, тесным кольцом опоясывали столицу. Семеновский полк располагался на Загородном проспекте, Московский — на Фонтанке, Измайловский — между Фонтанкой и Обводным каналом, Гренадерский — на Карповке, Финляндский — на Васильевском острове, Литовский — на Выборгской стороне. Гвардейские полки квартировали во всех царских резиденциях — в Гатчине, Царском Селе, Петергофе. И это еще не все. В Петербурге находился Главный штаб и штабы армейских соединений, военные училища и гвардейские корпуса. Петербург славился ежедневными разводами караулов и военными парадами на Марсовом поле. Ежедневные зимние занятия в городских манежах и ежегодные летние воинские учения в Красном Селе привлекали внимание буквально всех петербуржцев — от простых обывателей до вельможных сановников. Созданный объединенными усилиями писателей и художников, привычный облик Петербурга в армейской шинели вполне соответствовал представлению о нем даже нечитающей публики. Призывные звуки армейского барабана давно уже стали в Петербурге альтернативой колокольному звону, характерному для многих других российских городов, включая Москву. У Пушкина были все основания назвать Петербург «военной столицей».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: