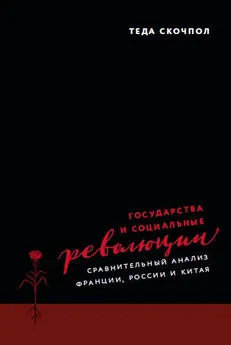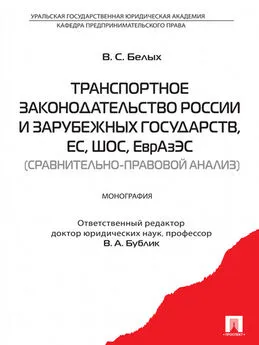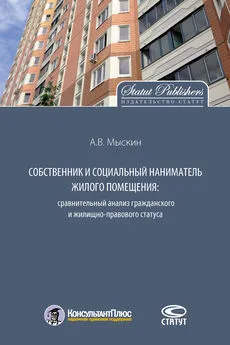Теда Скочпол - Государства и социальные революции. Сравнительный анализ Франции, России и Китая
- Название:Государства и социальные революции. Сравнительный анализ Франции, России и Китая
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-93255-491-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Теда Скочпол - Государства и социальные революции. Сравнительный анализ Франции, России и Китая краткое содержание
Государства и социальные революции. Сравнительный анализ Франции, России и Китая - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Вероятно, стоит отметить, что приверженность целенаправленному образу процесса развития революций приводит к социально-психологическим объяснениям даже тех теоретиков, которые намеревались давать социально-структурные объяснения. Поскольку, согласно этому образу, революционные кризисы происходят только (или преимущественно) в силу появления людей, которые недовольны или дезориентированы, или групп, которые можно мобилизовать для целей революции. А разрушение и трансформация Старого порядка происходят только потому, что для достижения этой цели было сформировано целенаправленное революционное движение. Вследствие этого, теоретики неумолимо подталкиваются к тому, чтобы рассматривать в качестве главных проблем людское недовольство или осознание людьми фундаментально оппозиционных целей и ценностей. К примеру, Тилли первоначально разрабатывал свою теорию коллективного действия с упором на социальную организацию групп и доступ к ресурсам в качестве четкой альтернативы социально-психологическим теориям политического насилия. Но, поскольку он определяет революционные ситуации в категориях особой цели (овладения верховной властью) за которую сражаются соперники, Тилли заканчивает тем, что вторит аргументации Джонсона о революционном идеологическом руководстве и гипотезе Гарра о недовольстве в качестве объяснения массовой поддержки, оказываемой революционным организациям [40] См. в особенности Tilly, Mobilization to Revolution, pp. 202–209.
. Аналогичным образом неомарксисты, по мере того, как они приходят к рассмотрению классового сознания и партийной организации в качестве ключевых проблем революции, стали все меньше интересоваться объективными, структурными условиями революций. Вместо этого, принимая как саму собой разумеющуюся адекватность марксова экономического анализа объективных социально-исторических условий для революций, они вкладывают инновационный теоретический потенциал в изучение того, что справедливо или ошибочно считается более политически податливыми субъективными условиями осуществления потенциальной революции, когда указанные выше объективные условия присутствуют.
Что неправильно в «целенаправленном» образе развития революций? Во-первых, он явно предполагает, что социальный порядок основывается, фундаментально или непосредственно, на консенсусе большинства (или низших классов) относительно того, что их потребности должны быть удовлетворены. Он предполагает, что предельным и достаточным условием для революции выступает исчезновение этой консенсусной поддержки и, наоборот, что никакой режим не может устоять, если массы раздражены. Хотя, разумеется, такие идеи не могли быть полностью приняты марксистами, они могут прокрасться косвенно, вместе с акцентом на классовое сознание или гегемонию. Гарр и Джонсон, что не удивительно, принимают эти представления совершенно открыто [41] К примеру, Гарр утверждает, что «общественный порядок поддерживается – а он может только поддерживаться, – когда в рамках его люди обеспечены средствами, позволяющими им работать для достижения своих устремлений» (Гарр Т. Р. Почему люди бунтуют. С. 40). А для Джонсона общества, чтобы сохранять стабильность, должны быть «сообществами носителей общих ценностей».
. И Тилли, по сути, переходит к их версии, когда изображает власти и революционные организации как конкурентов в борьбе за поддержку народа, а выбор народа как определяющий фактор в том, разовьется или нет революционная ситуация [42] См. сноску 30 выше. Это сноска отсылает к работе Тилли, цитата из которой уже приводилась на страницах 38–39.
. Те не менее, конечно, любые подобные консенсусные и волюнтаристские концепции социального порядка и дезинтеграции или изменения весьма наивны. Наиболее очевидным образом они опровергаются фактом длительного существования такого вопиюще репрессивного и внутренне нелегитимного режима, как южноафриканский [43] См., напр.: Herbert Adam, Modernizing Racial Domination: South Africa’s Political Dynamics (Berkeley: University of California Press, 1971), а также Russel, Rebellion, Revolution, and Armed Force, chs. 1–3. Обе эти работы подчеркивают слаженность и стабильность южноафриканского государства в качестве основного препятствия к революции, несмотря на недовольство и протесты «не-белого» большинства.
.
Что более важно, «целенаправленный» образ весьма обманчив относительно и причин, и хода социальных революций, как они реально имели место в истории. Что касается причин, безотносительно того, какие формы социальные революции могут принять в будущем (скажем, в индустриальной, либерально-демократической стране), факт состоит в том, что исторически ни одна успешная социальная революция не была «сделана» мобилизующим массы, открыто революционным движением. Как это точно сформулировал Джереми Бречер: «на самом деле революционные движения редко начинаются с революционных намерений; последние развиваются только в ходе самой борьбы» [44] Jeremy Brecher, Strike! (San Francisco: Straight Arrow Books, 1972), p. 240.
. Совершенно верно, что революционные организации и идеологии помогают повысить солидарность радикального авангарда до и/или во время революционных кризисов. И они очень облегчают консолидацию новых порядков. Но такие авангарды (не говоря уже об авангардах с большими, мобилизованными и идеологизированными массами последователей) ни в коей мере никогда не создавали революционных кризисов, которыми они пользовались. Вместо этого, как мы увидим в следующих главах, революционные ситуации развиваются благодаря возникновению военно-политических кризисов государства и классового господства. И только благодаря возможностям, созданным в ходе этих кризисов, революционные лидеры и восставшие массы вносили свой вклад в осуществление революционных трансформаций. Кроме этого, восставшие массы очень часто действовали самостоятельно, не будучи непосредственно организованы или идеологически воодушевлены открыто революционными лидерами и целями. Относительно причин исторических социальных революций Уэнделл Филлипс однажды совершенно справедливо отметил: «Революций не делают, революции приходят» [45] Цитата Уэнделла Филлипса приведена по работе: Stephen F. Cohen, Bukharin and the Bolshevik Revolution (New York: Knopf, 1973), p. 336; Коэн С. Бухарин. Политическая биография 1888–1938. Москва: Прогресс, 1988. C. 402.
.
«Целенаправленный» образ в той же степени вводит в заблуждение относительно хода и результатов исторических революций, в какой и относительно их причин. Дело в том, что он убедительно предполагает, что процессы и результаты революций могут объясняться через деятельность и намерения или интересы ключевой группы (или групп), которые начали революцию. Поэтому, хотя Гарр и не рассматривает революции как нечто помимо исключительно разрушительных действий, он настаивает, что они суть прямое следствие деятельности фрустрированых, разгневанных масс и лидеров, которые являются первоначальной причиной революции. Для Джонсона насильственная смена ценностей, осуществляемая революцией, выступает делом рук идеологического движения, выросшего внутри старой, разбалансированной социальной системы. А марксисты нередко приписывают подспудную логику революционных процессов интересам и действиям соответствующего класса-для-себя, буржуазии или пролетариата.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: