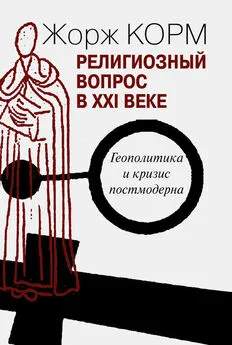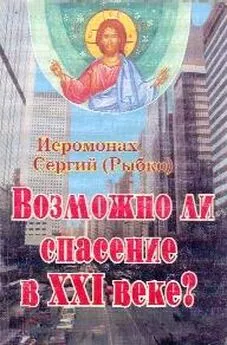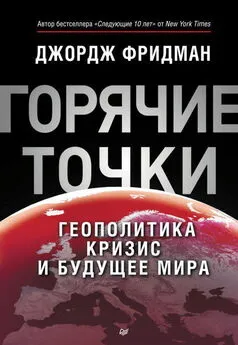Жорж Корм - Религиозный вопрос в XXI веке. Геополитика и кризис постмодерна
- Название:Религиозный вопрос в XXI веке. Геополитика и кризис постмодерна
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «ИОИ»77f366e0-7f11-11e5-b0d0-0025905b9d92
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978-5-88230-291-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жорж Корм - Религиозный вопрос в XXI веке. Геополитика и кризис постмодерна краткое содержание
Жорж Корм – философ, экономист, автор многих замечательных книг, посвященных истории Западной Европы и стран Ближнего Востока.
В этой книге он обращается к анализу подъёма религиозных настроений в последние десятилетия XX века и в начале века нынешнего. Именно они становятся сегодня доминирующим фактором мировой политики, одним из ключевых вопросов строительства современного общества и – самое главное – самой острой из существующих (наряду с проблемами окружающей среды) проблем человечества в целом и каждой страны, каждого общества в отдельности. Исламский терроризм, проблемы социальной и культурной интеграции, религиозная нетерпимость и, наконец, войны, основанные на религиозных противоречиях – всё это реальность сегодняшнего дня; и только попытавшись увидеть, понять сложнейшую ткань взаимосвязей – философских, исторических, политических – мы можем надеяться выйти из тупика, в которую зашла современная цивилизация. Ведь религия сегодня – это не только знамя борьбы, не только моральный ориентир – но и средство, активно используемое в интересах самых разных групп, инструмент давления, инструмент достижения целей, от религии порой слишком далёких.
Религиозный вопрос в XXI веке. Геополитика и кризис постмодерна - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Сегодня этот эссенциализм стал возможен потому, что светскому гуманизму модерна не удалось его подавить, но также и потому, что последний сам широко использовал такой эссенциализм в XIX и XX веках. Как он работал, мы увидим в следующих главах, где будут рассматриваться расистские теории, построенные на достижениях лингвистики, создавшей концепции антропологического разнообразия мира. Расизм, эссенциализм и колониализм образуют трилогию, которая оставила глубокий след в европейской культуре XIX и XX веков. Она предполагает наличие особых инвариантов цивилизаций, наций, народов: мир иерархически делится не только на арийцев и семитов, но и на культурные народы, обладающие историческим сознанием, и первобытные или дикие племена, не имеющие истории; так же, если следовать терминологии Вебера, мир можно поделить на магические или харизматические общества, в которых правят религия и власть племенного или патриархального вождя, и общества рациональные, наделенные научной бюрократией, которая организует функционирование государства и общества так, чтобы максимизировать благосостояние людей [64]. Короче говоря, для значительных регионов европейской культуры мир делится на два вида людей [65]. Как мы еще увидим, это деление мира легитимирует колонизацию и империализм.
Однако гуманистические стороны этой культуры будут стремиться ослабить жесткий эссенциализм, лежащий в основе этого «цивилизационного» расизма и являющийся объектом желания всех политических традиционалистов, отвергающих идею изменчивости структуры обществ и цивилизаций, порождаемой ими. Философия Просвещения, подхваченная гегелевской философией, а затем – позитивизмом и марксизмом, выработает представление об «эпохах» человечества, через которые проходят общества, двигаясь от стадии первобытного племени к цивилизации. Марксизм поделит мир на докапиталистические и капиталистические общества, так же выделив обширные фазы человеческой истории: эта концепция потом будет воспроизведена под другим соусом, в ином идеологическом контексте, американскими экономистами-теоретиками «этапов» экономического развития [66]. Но все эти теории во всей их совокупности не помешают новым формам расизма, представленным европейским этноцентризмом, видеть в европейской культуре и технической цивилизации «авангард» человечества, который должен открыть путь другим нациям, народам или цивилизациям.
Колониализм раньше прикрывался также легитимностью, основанной на предположительном превосходстве европейской цивилизации и христианства как всеобщей религии. Рауль Жирарде сумел хорошо описать тесный союз Церкви и государства в европейской колониальной экспансии: «На протяжении XIX века, – пишет он, – исторически сложилась фактическая общность интересов Церкви с ее апостольской миссией, проводимой в заморских странах, и государства, осуществляющего свои имперские амбиции: с точки зрения подавляющей части верующих, как и неверующих, понятия евангелизации и колонизации никогда не теряли тесной связи друг с другом. Для Церкви распространение сферы её влияния – в пространстве и во времени – совпало с усилением европейского господства. Почти всегда миссионеры стремились опереться на колонизирующее государство, требуя от него защиты и успешно сотрудничая с ним в установлении и поддержке его политической власти. С другой стороны, практически всегда государственные органы признавали доктрину, согласно которой миссионерские акции в общем и целом являются важным вкладом в процесс колонизации, поскольку они способны помочь администрации в огромном числе задач, включая вопросы санитарного обеспечения и медицины, так что влияние миссионеров чаще всего считалось желательным с точки зрения образования и “нравственного воспитания туземцев”. В этом плане довольно значимо то, что миссионерская деятельность почти не пострадала из-за конфликта Церкви и республиканского государства, который разразился в конце XIX века и начале XX-го» [67].
Речь тогда шла о том, как «привести» другие народы к цивилизации, открыть новые торговые рынки, обеспечив процветание и технический прогресс на общемировом уровне. Так, в 1931 году французский преподаватель Альбер Байе на конгрессе Лиги прав человека, посвященном колонизации, заявил: «Отсюда следует, что колонизация легитимна, когда колонизирующий народ приносит с собой сокровищницу идей и чувств, которые обогатят другие народы; если это условие выполняется, колонизация оказывается не правом, а прямой обязанностью […]. Мне кажется, что современная Франция, дочь Возрождения, наследница XVII века и Революции, предлагает миру самоценный идеал, которая она может и должна распространить по всему мирозданию. Принести науку народам, которым она не известна, дать им дороги, каналы, железнодорожные пути, автомобили, телеграф, телефон, организовать у них гигиеническую службу, познакомить их с правами человека – вот задача братства. […] Страну, провозгласившую права человека, сделавшую огромный вклад в развитие наук, создавшую светское образование и служившую всем другим нациям примером борьбы за свободу, само её прошлое обязывает распространять везде, где она только сможет, идеи, ставшие причиной её величия» [68]. Действительно, европейские национализмы в конце XIX века представляли собой формы империализма, который разрабатывал идеологии легитимации колонизации через мега-идентичности. К слову, Ханна Арендт ясно продемонстрировала сложные связи, объединяющие этот подъем империализма с возникновением в Европе тоталитарных увлечений, а также с рождением современного антисемитизма, не имеющего ничего общего с христианским антииудаизмом, имевшим теологические основы [69].
Однако эволюция антиколониальных идей в самой европейской культуре и развитие в международном праве принципа права народов на самоопределение расшатали такую легитимность, способствуя одновременно оформлению принципов борьбы против расизма и антисемитизма [70]. В XIX веке понятие империализма в европейской политической культуре имело положительные коннотации, поскольку колониальное расширение рассматривалось в качестве положительного, нормального и полезного явления, свидетельствующего о жизненной силе великий наций, их культуры и ценностей. Во второй половине XX века термин «империализм» приобрел отрицательное значение, а европейские государства были вынуждены отказаться от своих колониальных владений, чему зачастую предшествовали долгие и кровопролитные войны. На смену классическому империализму приходит неоколониализм, который США начинают практиковать в Латинской Америке, а потом и во многих других частях мира, по мере того как развертывание холодной войны приводит к политической клиентелизации недавно обретших независимость стран, попадающих в сферу влияния двух сверхдержав.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: