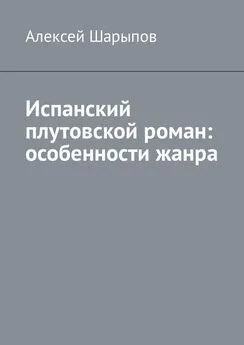Юрий Штридтер - Плутовской роман в России. К истории русского романа до Гоголя
- Название:Плутовской роман в России. К истории русского романа до Гоголя
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Алетейя»316cf838-677c-11e5-a1d6-0025905a069a
- Год:2015
- Город:Москва-Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-91022-268-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Штридтер - Плутовской роман в России. К истории русского романа до Гоголя краткое содержание
В книге рассматривается малоизвестный процесс развития западноевропейского плутовского романа в России (в догоголевский период). Автор проводит параллели между русской и западной традициями, отслеживает процесс постепенной «национализации» плутовского романа в Российской империи.
Плутовской роман в России. К истории русского романа до Гоголя - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Но мода, инициированная императрицей, скоро стала неудобна самой Екатерине потому, что сатира грозила обратиться и против неё – как автора и государыни. Поэтому уже в 1770 г. она готовилась резко остановить поток сатирических журналов. Её недовольство возбуждал и журнал Чулкова, хотя он в сравнении с другими журналами (особенно издававшимися Новиковым) едва содержал внелитературную полемику. Прямое порицание со стороны государыни наверняка немало способствовало тому, что Чулков вскоре снова прекратил издание журнала [285]. И так как находившийся на императорской службе Чулков (в противоположность материально независимому Новикову) склонялся скорее к тому, чтобы избегать трудностей, нежели непреклонно бороться за определённые идеалы, то после 1770 г. он отвернулся от сатиры, следуя и в этом ходу времени (в данном случае давлению времени). Но с отходом на задний план сатиры возрастает значение собирательского и научно-популярного интереса, который – и этому благоприятствует положение в коммерц-коллегии – всё более исключительным образом определяет деятельность Чулкова как автора.
Пересекаются и взаимодействуют чисто литературная (мода на сатирические журналы), политическая (поворот в политике Екатерины) и частная ситуация (переход Чулкова на службу в сенат). К этому добавляется следующий момент, который можно охарактеризовать как социологический. Чулков пишет для других социальных слоев русских читателей, нежели авторы «высокой» классицистической поэзии. А так как он сам происходит из низших социальных слоев, сам был актером, слугой при дворе, канцелярским служащим, секретарем в коммерц-коллегии и мелким землевладельцем, он уж знает вкус этих читателей как едва ли какой-то другой автор своего времени. При выборе своих тем и их разработке он ориентируется на потребности своих читателей, и он должен поступать так уже потому, что только спрос читателей гарантирует продажу его книг. Эта продажа была, однако, для Чулкова необходимой финансовой предпосылкой написания и публикации дальнейших сочинений. Сказанное особенно касается первых лет, когда Чулков не располагал собственным имуществом и не имел мецената и поэтому мог покрывать расходы по печати только от продажи книг. Предисловия «Пересмешника» неприкрыто свидетельствуют об этом бедственном положении автора и о его зависимости от читателей [286].
Но и позже, когда Чулков получил поддержку от сената и от частных меценатов, ориентация на широкого, простого читателя остается основной чертой всего творчества писателя. Если он со своей историей торговли или собраниями законов хотел идти навстречу желаниям властей, то эти шаги вполне соответствовали и подлинным потребностям тех читательских кругов, для которых он уже писал свои ранние романы или сказки, создавал сатирические журналы или научно-популярные произведения. Ведь простые русские читатели его времени требовали не только литературы «для приятного времяпрепровождения» [287]. Потребность в справочниках и общепонятных учебниках была в России 18 в., стремившейся присоединиться к западноевропейской цивилизации и воспринять технику Западной Европы, чрезвычайно сильна. И если читатели, принадлежавшие к высшим слоям общества, могли обратиться к литературе на иностранных языках, как развлекательной, так и научной или научно-популярной, то простые читатели, не владевшие иностранными языками, были чрезвычайно зависимы от русских авторов и переводчиков. Следовательно, поворот Чулкова к научно-популярной литературе означает не отход от тех, кто читал его сначала, а только большее в отношении стилистической ориентации внимание к их желаниям и потребностям.
И в этом Чулков хотя и особенно выраженный пример, но не единичный случай. Так, например, другой ведущий прозаик того же времени, Василий Левшин, показывает в своём литературном становлении явные параллели с Чулковым, даже если его поворот был не столь внезапным и радикальным. Левшин, как и Чулков, был плодовитым автором, но при этом он ещё и намного превосходил своего современника [288]. Он тоже начинает в основном со сказок, повестей, романов (собственных или переведённых) и всё более обращается к написанию и переводу научно-популярных книг и справочников. При этом происхождение и политическая тенденция обоих авторов в корне различна. Левшин происходит из старой дворянской фамилии и предпочитает обращать свою насмешку против «новомодных дворян» [289], к числу которых относился и Чулков. Решающее значение для параллельности имеет не социальное происхождение авторов, а ориентация на одни и те же социальные слои русских читателей.
Пример позволяет понять, как важно для правильной оценки таких авторов не только уделять внимание литературным или биографическим моментам, но, наряду с этим, также учитывать имеющуюся или возможную зависимость писателя от определённой публики. Это имеет силу на примере Чулкова с точки зрения направленности всей его литературной продукции, а также и для характера отдельного произведения. Часто тематика и оформление произведения полностью охватывается у него вообще только исходя из этой связи. И наоборот, то, что до сих пор в его целостном развитии как автора было очерчено в общих чертах, может быть разъяснено и подтверждено лишь в результате анализа отдельных произведений.
Первое напечатанное произведение Чулкова – «Пересмешник» [290]. 01.02.1766 автор – тогда придворный лакей – сообщил Академии Наук о печатании сочинения в типографии Академии [291]. В ноябре этого года первая часть вышла обычным тогда тиражом в 600 экземпляров [292]. Книга была получена от нового арендатора типографии Академии, Николая Новикова. Так «Пересмешник» оказался одним из первых изданий Новикова, тех, которые впоследствии почти 30 лет в значительной степени определяли направление русской прозы и положение на русском книжном рынке. Он числился и среди успехов Новикова в книжной сфере, выдержав на протяжении 25 лет четыре издания – большое число по тогдашним российским масштабам. Вторая часть вышла в том же 1766 г. [293], но уже после того, как стала известна первая. Ведь в предисловии ко второй части определённо указывается на выход первой и её воздействие [294]. Третья часть последовала, вероятно, в 1768 г., но, во всяком случае, после «Краткого мифологического словаря» Чулкова 1767 г. Доказательством тому служит указание на эту работу в предисловии к третьей части [295]. Четвертая часть вышла в 1768 г. Эти четыре части были в 1770 г. изданы во второй раз, в 1783 г. последовало третье, в 1789 четвертое (и, по– видимому, последнее) [296]. Издание 1789 г. расширено на одну новую, пятую часть. Следовательно, между выходом первой и последней частей прошло более 20 лет [297].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:









![Борис Райков - Предшественники Дарвина в России [Из истории русского естествознания]](/books/1094103/boris-rajkov-predshestvenniki-darvina-v-rossii-iz.webp)