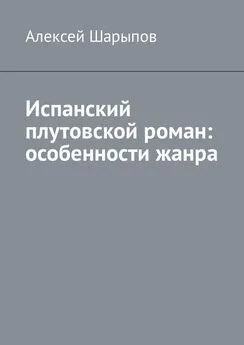Юрий Штридтер - Плутовской роман в России. К истории русского романа до Гоголя
- Название:Плутовской роман в России. К истории русского романа до Гоголя
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Алетейя»316cf838-677c-11e5-a1d6-0025905a069a
- Год:2015
- Город:Москва-Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-91022-268-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Штридтер - Плутовской роман в России. К истории русского романа до Гоголя краткое содержание
В книге рассматривается малоизвестный процесс развития западноевропейского плутовского романа в России (в догоголевский период). Автор проводит параллели между русской и западной традициями, отслеживает процесс постепенной «национализации» плутовского романа в Российской империи.
Плутовской роман в России. К истории русского романа до Гоголя - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Издание 1770 г. не подтверждено ни в каталогах XIX в., ни у Сиповского. Один Шкловский упоминает его и подтверждает его существование [298]. Если в новых работах, как, например, «Истории литературы» Благого, насчитываются только три издания, то эти выводы опираются, очевидно, лишь на данные Сиповского и игнорируют более новые и точные результаты Шкловского [299]. Это тем сомнительнее, что Благой как раз из относительно длительного временно го промежутка от первого издания 1766–1768 и – для него – второго 1783 г. делает вывод о том, что воздействие «Пересмешника» дало себя знать только после длительной паузы, потому, что, вероятно, помешали цензурные трудности. Этот вывод опровергается как данными Шкловского, так и самой историей восприятия произведения и его влияния.
«Пересмешник» открывается предисловием, на котором здесь приходится ненадолго остановиться. Дело в том, что оно особенно показательно для уже обрисованного положения автора. Прежде всего бросается в глаза, что сразу же начинается предисловие и отсутствует посвящение, как правило, в современных произведениях почти всегда обычное. Как уже упоминалось, это обстоятельство означало, что Чулков не имел тогда мецената и не ожидал подарка от покровителя, а обратился непосредственно к читателям (и покупателям) своей книги. Несомненно, пародируя и варьируя заключительную формулу, обычную для посвящений высоким покровителям, он подписывает своё предисловие как «нижайший и учтивый слуга», но только не высокородного господина, а «общества и читателя» [300].
Автор намеренно представляет себя как можно более незначительным и «низким». Книга, пишет он, является его первой попыткой, и он придерживается пословицы, согласно которой первую песню поют краснея (правда, также и другой, о том, что плававший в реке отважится пуститься и в море). Он захотел попробовать свои силы в качестве «писателя»; на обозначение «автор» («сочинитель») он может надеяться только в будущем. Он не относится также к тому сорту знатных людей, которые своими колясками вздымают пыль улицы, но малозначащий человек 21 года, одетый как едва ли не каждый и прежде всего – как почти все «мелкотравчатые сочинители» – крайне беден. Читатель не должен утруждать себя знакомством с ним, ибо вместо того, чтобы найти у него поддержку, читателю придется, чего доброго, предоставить поддержку ему [301].
В предисловии к третьей части Чулков говорит даже ещё конкретнее о своём плохом финансовом положении. Он – страстный и плодовитый писатель и сказочник и легко мог бы дополнить написанные до сих пор три части дальнейшими 25, будь у него достаточно денег, чтобы оплатить печатание в Академии Наук. Но так как денег-то у него и нет, ему, вопреки своей воле, придется отказаться от дальнейших продолжений [302]. Действительно, Чулков был тогда не в состоянии оплатить в Академии стоимость печатания всех своих произведений [303].
Следовательно, изображение собственной зависимости и бедственного положения на примере Чулкова не просто изобретено или является литературным шаблонам, но и соответствует биографическим фактам. Но в то же время оно служит характеристике собственной литературной позиции. Благодаря этому автор дистанцируется в социальном и литературном отношении от представителей «высокой» поэзии и «высшего» общества. Он не из знати, «не громыхает в коляске по улицам»; и точно так же он дистанцирует «простой слог» своих произведений от «изысканной» франкомании других современных авторов и общественных кругов [304]. Благодаря способу, которым он при этом вновь и вновь переводил разговор на себя, иронически принижая самого себя и, кажется, ни других, ни себя не воспринимая всерьез, он и создал забавный, сильно окрашенный субъективным восприятием стиль болтовни, который характеризует его предисловие, а позже самую большую часть его беллетристики.
Следовательно, его «самоуничижение», будучи наполовину клятвенным, наполовину ироническим, явственно отличается от «панегирического», как можно было бы сказать, самоуничижения для обычных в ту пору посвящений влиятельным покровителям. В этом отношении предисловие «Пересмешника» занимает особое положение среди книг, напечатанных тогда в России [305]. С другой стороны, не случайно, что как раз в своём ироническом самоуничижении предисловие касается другого, тогда актуального в России произведения. Оно же, равным образом пародируя и полемизируя, обращается против патетически-вычурного стиля – знаменитого, ранее уже упомянутого «Roman comique» («Комический роман») Скаррона [306].
Это «умаление» переносится с собственной личности и на своё произведение. Правда, книга не столь уж вредна, но, несомненно, также не приносит и пользы и едва ли пригодна для исправления нравов [307]. С помощью этого поворота автор дистанцируется ещё отчетливее, чем посредством самоуничижения, от привычек, обычных тогда в русской прозе. Формула «моральной пользы» и «улучшения нравов», которую Чулков подхватывает здесь в негативном контексте, обнаруживается почти в каждом предисловии русской прозы XVIII в. [308]Даже переводчики очевидно фривольных, чтобы не сказать скабрезных романов почти никогда не упускают случая подчеркнуть в своих предисловиях, что описанные эпизоды должны служить только предостережению и поучению, и что целью автора по сути дела являлись только мораль и «улучшение нравов» [309]. Эта склонность оказывается настолько всеобщей, что русские исследователи представляли точку зрения, согласно которой «морализаторская» черта – наиболее яркий признак всей русской прозы, даже всей русской литературы того периода [310]. При этом данная тенденция в России не шла на убыль, а постоянно росла. После 70-х гг. она усилилась благодаря изменению направления в политике Екатерины, становилась всеобщей, когда цензура послеекатерининского времени делала «моральную пользу» книги главной предпосылкой её публикации [311], и достигла в романе 1820-х гг. своего рода кульминации.
Тем большее внимание обращает на себя поэтому то обстоятельство, что автор «Пересмешника» в своём предисловии выражает другую позицию. Он не хочет писать объёмистое произведение, улучшающее нравы; он хочет развлекать и побудить к смеху, ведь, как он рассуждает, человек – это смешное и смеющееся, осмеивающее других и само осмеиваемое живое существо. Дословно говорится следующее: «Человек, как сказывают, животное смешное и смеющееся, пересмешающее и пересмешающееся: ибо все подвержены смеху и все смеемся над другими» [312]. Эта формулировка интерпретирует название целого произведения: «Пересмешник», или – если есть намерение воспроизвести дословный смысл, в немецком языке необходимый для игры слов – делающий смешным, осмеивающий, высмеивающий.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:









![Борис Райков - Предшественники Дарвина в России [Из истории русского естествознания]](/books/1094103/boris-rajkov-predshestvenniki-darvina-v-rossii-iz.webp)