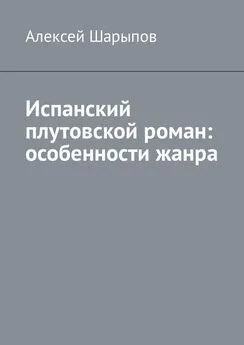Юрий Штридтер - Плутовской роман в России. К истории русского романа до Гоголя
- Название:Плутовской роман в России. К истории русского романа до Гоголя
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Алетейя»316cf838-677c-11e5-a1d6-0025905a069a
- Год:2015
- Город:Москва-Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-91022-268-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Штридтер - Плутовской роман в России. К истории русского романа до Гоголя краткое содержание
В книге рассматривается малоизвестный процесс развития западноевропейского плутовского романа в России (в догоголевский период). Автор проводит параллели между русской и западной традициями, отслеживает процесс постепенной «национализации» плутовского романа в Российской империи.
Плутовской роман в России. К истории русского романа до Гоголя - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
При этом речь идёт не просто о том, что такое заключение противоречит предшествующим плутовским проделкам. Подобные моральные завершения обнаруживаются в большинстве плутовских романов, причём не только в «старых». С воровкой и проституткой Молль Флендерс также происходит под конец её волнующей жизни сходное моральное преображение, которое может легко показаться современному читателю несколько принужденной, «морализирующей» конструкцией заключения, если он ожидает от плутовского романа только занимательных и интересных описаний среды воров и проституток. Но внимательный читатель легко поймет, что моральное превращение Молль имеет точно так же подлинно религиозное происхождение, как и Симплициуса, что вообще весь роман Дефо продолжает традицию старого, религиозно мотивированного плутовского романа. Несмотря на занимательность повествования и начальную «аморальность» рассказчицы, это в высшей степени нравственное произведение, движимое пуританским пафосом. Уже постольку моральный заключительный поворот не является здесь ни немотивированным, ни неожиданным. К этому добавляется, что – также после поворота, происшедшего с самой главной героиней – тон рассказа остается до конца отмеченным той подчёркнутой деловитостью и немногословностью, которая характерна для всего произведения.
Но заключение в «Пригожей поварихе» – в меньшей степени продукт подлинного морального очищения, чем мелодраматическая сцена ужаса с черными шторами, черепами мертвых, безумными самоубийцами и патетическими тирадами. Речь идёт, следовательно, не столько о недостающей «психологической» мотивировке (на которую, говоря о плутовском романе, можно скорее не обратить внимания), сколько о радикальном разрыве со стилем. Этот разрыв является в данном случае не изобразительным средством для создания контрастного эффекта, а просто недостатком с изобразительной точки зрения. Постольку он не сравним ни с «Прощанием с миром» в заключение «Симплициссимуса», ни с очищением Молль Флендерс, а самое большее с поверхностными, но зато тем более патетическими завершениями полуназидательных, полуфривольных «романов о нравах». На протяжении XVIII в. они главным образом попадали из Франции в Россию и их охотно принимала тогдашняя русская читающая публика. Типичный пример такого рода псевдоморальных романов о нравах – произведения француза Нугаре, современника Чулкова. Они начали появляться в русском переводе почти одновременно с романами Чулкова [481]. Наряду с чистой воды сборниками анекдотов [482]Нугаре пишет и настоящие «романы о нравах», в которых он предпочитает описывать любовные приключения молодых женщин, которые большей частью приезжают в Париж из деревни и в столице морально опускаются и погибают. Следовательно, сюжеты его романов не сходны с сюжетом «Пригожей поварихи». И Нугаре не преминул расписать позднейшие последствия начальных заблуждений в виде возможно более жутких сцен. Только он – в противоположность Чулкову – заверяет своего читателя уже в предисловии, что вся характеристика приключений служит лишь предостережению и улучшению нравов (притязание, которое далеко не всегда подтверждается следующими характеристиками [483]). В какой мере возможно прямое влияние Нугаре на Чулкова, предстоит ещё исследовать позже. Но, во всяком случае, «морально»– патетическое заключение «Пригожей поварихи» по своим содержанию и стилю похоже скорее на «Роман о нравах» в духе Нугаре, чем на моральные заключительные обороты плутовских романов.
Возникающие в результате этого различия между отдельными фрагментами текста «Пригожей поварихи» так сильны, что можно было бы говорить почти о различных частях или, по меньшей мере, о сменяющих друг друга пластах рассказа. Из прежде всего исторически зафиксированного и начинающегося необычно «реалистически» жизнеописания вдовы сержанта из Киева после Полтавской битвы вскоре возникает топический ряд приключений плутовки, а из него – мелодраматический финал в стиле романа ужасов или едва ли близких ему «романов о нравах» Нугаре.
Это обстоятельство, вероятно, также главная причина для весьма различной оценки произведения в литературе. До сих пор не удалось установить прямые упоминания романа в других произведениях, мемуарах или письмах XVIII в. Но «Русский Вестник» 1808 г. содержит анекдот, касающийся книги Чулкова [484]. Там говорится, что однажды знаменитый генерал князь Суворов (1729–1800) на вопрос, какие произведения военной литературы он считает величайшими, отрицательно качал головой при всех упоминавшихся названиях, а затем прошептал спрашивавшему: «Сельский лечебник» и «Пригожая повариха». Ирония этого ответа несомненна, и становится ясно, что Суворов включал роман Чулкова в категорию «народных книг» (да ведь «Сельский лечебник» и романы этого автора действительно были написаны именно для такой публики [485]). Но в то же время анекдот свидетельствует, что «Пригожая повариха» была известна (по меньшей мере по названию) и столь высокопоставленной личности, как Суворов. Его собеседник вполне мог предполагать, что книга была известна тому – даже если книга Чулкова больше не издавалась и, кажется, не осталась в XVIII столетии незамеченной.
В первой половине XIX в. она и вовсе канула в Лету. Только в 1856 г. M. Лонгинов в своих «Библиографических заметках» [486]подробнее описывает содержание книги, одним из редких экземпляров которой он сам владел. Он подчёркивает перенесение действия в Россию, сходство с сатирическими журналами 70-х гг. и частоту употребления пословиц. Он полагает также, что роман в своё время пользовался большим успехом [487]. К «полуцинизму», обращавшему на себя внимание в языке «Пригожей поварихи», тогдашний русский читатель привык.
К такой оценке Лонгинова отчасти дословно присоединяется Н. В. Губерти в своём перечислении редких книг [488]. С этими скорее описательными замечаниями библиофилов согласна в своём оценивающем суждении историк литературы Н. Белозерская. В первой части своей обширной работы о В. Т. Нарежном она отмахивается от романа Чулкова с замечанием о том, что он «представляет ничто иное, как слабое подражание французским романам легкого содержания» [489]. Это едва ли справедливо в отношении сделанного Чулковым и особенно удивляет в работе, тема которой – сатирические романы Нарежного, близкие романам Чулкова. Не вполне справедлив даже упрек в «легком содержании», ибо то, что Нарежный описывает позже в своём «Русском Жиль Бласе», отчасти куда более неприлично, чем рассказ Мартоны. И В. С. Нечаева верно отметила, что, хотя «Пригожая повариха» имеет нечто общее с «легкой», эротической литературой благодаря своему подзаголовку «Похождение развратной женщины», содержание рассказа едва ли соответствует ожиданиям, пробуждаемым названием, и оказывается полностью «невинным» в сравнении с тем, что было тогда в России модным чтением (особенно у русской аристократии) [490]. Тот, кто просмотрит список уже упоминавшейся ранее частной библиотеки графа Шереметьева, в котором собираются простые и иллюстрированные издания наиболее пресловутых эротических произведений мировой литературы, и тот, кто сравнит содержание названных в нем произведений с «Пригожей поварихой», сможет только подтвердить оценку Нечаевой [491].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:









![Борис Райков - Предшественники Дарвина в России [Из истории русского естествознания]](/books/1094103/boris-rajkov-predshestvenniki-darvina-v-rossii-iz.webp)