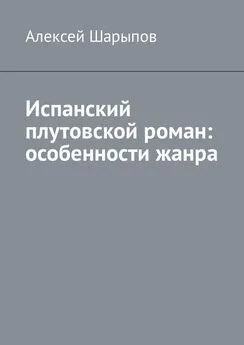Юрий Штридтер - Плутовской роман в России. К истории русского романа до Гоголя
- Название:Плутовской роман в России. К истории русского романа до Гоголя
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Алетейя»316cf838-677c-11e5-a1d6-0025905a069a
- Год:2015
- Город:Москва-Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-91022-268-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Штридтер - Плутовской роман в России. К истории русского романа до Гоголя краткое содержание
В книге рассматривается малоизвестный процесс развития западноевропейского плутовского романа в России (в догоголевский период). Автор проводит параллели между русской и западной традициями, отслеживает процесс постепенной «национализации» плутовского романа в Российской империи.
Плутовской роман в России. К истории русского романа до Гоголя - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Следовательно, здесь, несомненно, можно и должно говорить об опоре на «Жиль Бласа, а именно как в отношении отдельных мотивов и ситуаций, так и в отношении определённых техник изображения (например, различных «введений» в новую среду).
Вне этих фрагментов третьей и пятой части в романе Нарежного обнаруживаются едва высказанные, выраженные параллели в мотивах с «Жиль Бласом». Но совсем под конец рассказа от первого лица ещё раз делается ссылка на произведение Лесажа, причём прямо внутри действия романа. Это происходит в эпизоде, в котором Чистякова после его окончательного расставания с Фалалеевкой привозят в неизвестный ему лесной замок. Там его вводят в роскошную спальню, где он находит книжный шкаф с множеством книг. Отсюда он делает вывод,
…что хозяин, видно, не незнаком мне, когда знает мой вкус к чтению. Почему, вынувши похождение Жилблаза, занялся сею книгою и при каждом новом положении героя сравнивал с ним себя. Моё тогдашнее положение было подлинно жилблазовское [748].
Здесь сам Нарежный внутри рассказа от первого лица даёт оценку своему отношению к «Жиль Бласу». То, на что автор намекал в предисловии, повторяется теперь в действии романа и непосредственно перед его завершением ещё раз, по– другому. Поведение персонажа романа недвусмысленно указывает читателю на «Жиль Бласа» и имеющиеся параллели. Подобно тому, как сам Чистяков сравнивает свои приключения с пережитыми французским авантюристом, это может и должен сделать также читатель его биографии, чтобы установить, насколько подобны друг другу «ситуации». Но именно и только «ситуации», а не детали. Ведь интересно, что здесь положение «героя», приведённого в роскошную спальню неизвестной дамы, ощущается как «подлинно жилблазовское», и оно – действительно излюбленный мотив плутовских романов (появляющийся, например, в «Симплициссимусе» [749]или на примере героя Чулкова, плута Неоха). Но в само м «Жиль Бласе» будет напрасно искать прямое соответствие. «Жиль Блас» уже настолько стал для Нарежного прототипом плутовского романа и сочетанием плутовского с галантным приключением, что соответствующая ситуация характеризуется как «подлинно жилблазовская», даже если она и не задана прямо в романе Лесажа.
Во всём этом «Российский Жилблаз» Нарежного является, вероятно, важнейшим и наиболее определённым доказательством воздействия и популярности «Жиль Бласа» в России начала XIX в. Ни до, ни после него, нет русского плутовского романа, который, несомненно, оценивает «Жиль Бласа» и ссылается прямо на него. Но как раз прямое указание на произведение Лесажа и позволяет понять, что русский автор не боится сравнения с приключениями Жиль Бласа. Да ему и не нужно бояться такого сравнения, потому что он не просто подражает им, но пытается сделать русское переложение «прототипа». Ведь в своё время и сам Лесаж заимствовал у испанцев тип романа и многие детали. Белозерская очень точно сказала, что зависимость «Российского Жилблаза» от «Жиль Бласа» соответствует зависимости французского романа от «Обрегона» [750]. Можно было бы дополнить это общее замечание ещё указанием на то, что оба автора не опасаются прямо указывать в своём романе на оригинал. Нарежный делает это, демонстрируя круг чтения Чистякова и тем самым сравнивая его с Жиль Бласом, а Лесаж – перенося образ Обрегона в свой роман [751].
Сильнейший контраст с обсуждёнными частями романа, инициированными западноевропейским литературным оригиналом, образуют сцены из русской деревенской и народной жизни. В рассказе Чистякова они необычайно многочисленны и красочны, причём предстают в самых разных вариациях. Это история безумной Аннушки, прекрасной девушки-крестьянки, силой разлучённой с бедняком-возлюбленным, чтобы быть выданной замуж за богатого, и впавшей в безумие. Чистяков слушает её в деревенской прядильне, и рассказ выдержан вполне в стиле «исконно народной» баллады (Часть III, гл. 3–4). Подобный «романтический» элемент встречается также и в рассказанной странствующими философом Иваном истории о хитром кучере и главаре разбойников Гаркуше. И здесь он связан с более однозначной социальной критикой, направленной в первую очередь против богатых верхних слоёв и представляющей разбойника борцом за справедливость (Часть V, гл. 13). Гаркуша – историческая фигура. После уничтожения казацкой «Сечи» он стал разбойником и предводителем беглых крестьян, пока в 1782 г. его не поймали и не выслали в Нерчинск. Украинское устное народное творчество сделало из него легендарного борца за права бедноты, и в этом смысле его использует также автор «Российского Жилблаза» [752]. О том, что Нарежный особенно интересовался этой популярной фигурой, доказывает его попытка написать позже целый роман о Гаркуше, который, однако, остался незавершённым и был найден среди рукописей покойного [753].
Против богатых или жажды богатства обращается также другая вставка, относящаяся к русской народной жизни: история кучера Никиты, который когда-то был зажиточным торговцем лошадьми, пока по примеру соседей и из-за жадности своей жены не стал арендатором и спекулянтом, потерял на спекуляциях все свои деньги и, только работая кучером, смог снова выбиться в люди (Часть IV, гл. 8). Здесь отсутствует романтический балладный тон, и история имеет форму немногословного назидательного рассказа, сводящегося к определённой морали, причём отдельные факты правдивы и в высшей степени характерны для тогдашней России.
Можно было бы назвать другие подобные примеры, но достаточно уже упомянутых, чтобы разъяснять, что автор соединяет здесь рассмотрение тем из русской народной жизни с полемикой против богатых и богатства, и что в формальном отношении он склоняется к изображению этих тем в виде маленьких, обособленных эпизодов. Во всех трёх случаях Чистяков не сам переживает описанное им, но слышит о нём от других, чем подчёркивается особое положение рассказанного, его характер как вставки.
Родственна этим вставкам с точки зрения среды, но совершенно иная по концепции и с точки зрения изображения та часть рассказа Чистякова, в которой жизнь русской деревни является не только темой краткой вставки, но и местом действия целого периода жизни главного героя. Речь идёт об эпизодах в Фалалеевке. Как и вообще в начале романа, также и здесь преобладает диалог, только он напоминает теперь не «чувствительный» роман и «чувствительный» спектакль, а деревенский фарс. Здесь очень выражена склонность к грубой наглядности и чистому ситуационному комизму. При этом в центре внимания оказывается тема, из которой прежде всего комизм и вытекает. Имеет место контраст между деревенской примитивностью жителей и их кичливостью по поводу своего происхождения из древнего рода, чему в языковом отношении соответствует сознательно подчёркнутая грубость беседы при одновременном взаимном обращении «Ваше сиятельство».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:









![Борис Райков - Предшественники Дарвина в России [Из истории русского естествознания]](/books/1094103/boris-rajkov-predshestvenniki-darvina-v-rossii-iz.webp)