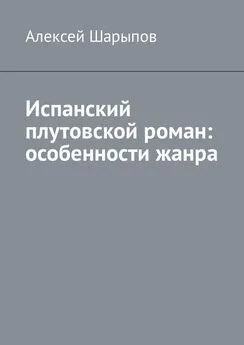Юрий Штридтер - Плутовской роман в России. К истории русского романа до Гоголя
- Название:Плутовской роман в России. К истории русского романа до Гоголя
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Алетейя»316cf838-677c-11e5-a1d6-0025905a069a
- Год:2015
- Город:Москва-Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-91022-268-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Штридтер - Плутовской роман в России. К истории русского романа до Гоголя краткое содержание
В книге рассматривается малоизвестный процесс развития западноевропейского плутовского романа в России (в догоголевский период). Автор проводит параллели между русской и западной традициями, отслеживает процесс постепенной «национализации» плутовского романа в Российской империи.
Плутовской роман в России. К истории русского романа до Гоголя - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Подобно Чулкову, наряду с такими говорящими именами появляются и очевидно «романические» имена, которыми оснащаются прежде всего фигуры, склонные к сентиментальности, к примеру, «Никандр», «Ликориса» и т. д. (причём, правда, у Нарежного, в противоположность Чулкову, говорящие имена решительно преобладают). Так, отдельные фигуры характеризуются уже своими именами как определённые типы, введённые в определённую функцию и соподчинённые определённой группе лиц или стилистическому слою. Это техника, которая точно так же связывает Нарежного с традицией западноевропейского плутовского романа, как и с «Неонилой» или «Евгением».
«Российский Жилблаз» также делит с этими «романами нравов» очевидный интерес к «воспитанию» и полемике против деформирования молодёжи «новомодным» и «иностранным». В романе Нарежного вновь и вновь звучат сетования на пагубное воспитание в пансионах (в качестве их руководителей почти всегда называются иностранцы) [772]. Уже спор родителей Простакова вокруг этой темы создаёт начало романа [773]. Именно Простаков в другом месте связывает упрёк в адрес пансионов с полемикой против тайком читавшейся там фривольной иностранной литературы и при этом отвергает всё иностранное образование. Ведь без знания иностранных языков его дочери не познакомились бы с такими книгами, как «La Pucelle d'Orleans» («Орлеанская девственница», сатирически-пародийная поэма Вольтера. – Прим. пер), «Therese Philosophique» и «La fille de joie» [774]. Что Нарежный приводит здесь эти три названия, интересно в той мере, в какой произведения относятся не только к числу самых знаменитых примеров галантной (а отчасти прямо скабрёзной) западноевропейской литературы, но и во времена Нарежного действительно имевшихся в России. Применительно к «Девственнице», сочинению Вольтера, это и не удивительно, так как упомянутый автор временами входил в число самых популярных в России. Но обнаруживаются и две другие книги, например, в библиотеке графа Шереметьева, и обе не без основания (в противоположность «Девственнице») в отделе «тайных книг» (и французский перевод знаменитой книги Клеланда «Woman of pleasure» (Фанни Хилл. Мемуары женщины для утех. – Прим. пер.) сразу в трёх изданиях), причём все, в полном соответствии с высказыванием Простакова, конечно, только во французских редакциях, а не в русском переводе [775]. Подобно тому, как в результате перечисления «книг» Чистякова оказывается, что Нарежный знал «лубок» и его характерные примеры, упоминание, сделанное выше, свидетельствует о знании им галантной иностранной литературы. Так как автор и здесь довольствуется простым упоминанием названия, чтобы тем самым охарактеризовать определённый вид литературы, он, очевидно, предполагает у своих читателях знание этих сочинений (или, по меньшей мере, названий).
Если для русского издания начала XIX столетия рискованно уже название таких книг, то в собственных описаниях Нарежного нет недостатка в сценах, сильно напоминающих о галантных «мемуарах». Хотя они и задумывались всегда как предостерегающее описание нравов, но по смелости и отчётливости далеко превосходили то, что на рубеже веков предлагали русские «романы нравов» [776]. Такой интерес к галантному, а то и прямо неприличному, бросающийся в глаза, но при литературно-исторической оценке романа обойдённый, вероятно, из ложного стыда, заслуживает внимания в той мере, в какой речь идёт не только о существенной составной части тенденции произведения, описывающей нравы. Это должно было предоставить и цензуре удобный случай по другим причинам запретить не особенно приемлемое сочинение как «безнравственное».
Роман Нарежного объединяет с предшествующей русской сатирической литературой, кроме говорящих имён и полемики против «новомодного» воспитания и иностранцев [777], также насмешка над стихоплётами и теми, кто уродует язык. Это тема, игравшая определённую роль во многих плутовских романах, особенно у Лесажа, и уже Чулков ввёл её в русский плутовской роман. В «Российском Жилблазе» имеется целый ряд такого рода «поэтов», «филологов» и т. д. Важнейший и подробнее всего обрисованный персонаж этого рода – «метафизик» Трисмегалос, учитель Никандра (Часть II, гл. 8-12). В целом, согласно замыслу этого образа и соподчинённых ему эпизодов, Нарежный придерживается традиционного образа «педанта». При этом его Трисмегалос, подобно Куромше у Чулкова – старик, влюбившийся в юную девушку, пишущий для своей возлюбленной какие только можно «сочинения» и тем самым выставляющий себя всем на посмешище. В конце концов он, опечаленный, умирает после того, как его быстренько ограбили родные. Греческое имя – намёк на три его большие страсти: метафизику, церковнославянский язык и пунш [778]. Вторая из трёх слабостей придаёт его фигуре особое своеобразие и полемическую актуальность. Трисмегалос из принципа говорит только по-церковнославянски или архаизируя и уже присланного к нему Никандра принимает такими словами:
«Чего ищеши зде, чадо?. Благо ти, чадо, аще тако хитр еси в науках, яко же вещает почтенный благоприятель мой! Ты пребудеши в дому моём аки Ное в ковчезе, и треволнения никогда же тя коснутся. Добре ли веси правописание?» [779]
Эта отчасти весьма ловкая и забавная пародия на преувеличенное использование церковнославянского языка продолжается на протяжении целых страниц и даже в различных главах. Борьба за оживление и усиление церковнославянского элемента в русском языке и литературе, которую вели Шишков и его приверженцы, входила во времена Нарежного в важнейшие и сильнее всего бросающиеся в глаза явления литературной России. С учётом сказанного не вызывает сомнений, против кого направлялся этот пародистски-полемический выпад.
Ещё одна, куда более личностная колкость против Шишкова скрывается, вероятно, за образом и словами «филолога», который в другом эпизоде хвалит себя за то, что он обогатил русский язык рядом «новых, прекрасных» слов, и перечисляет все их. Это сплошь бесформенно сконструированные русские описания привычных иностранных слов [780]. Очень вероятно, что здесь Нарежный намекает на Шишкова, который в качестве президента Академии протестовал против применения иностранных слов и предлагал на замену русские слова, опубликованные в 1804 г. в форме целых списков [781]. Для техники романа Нарежного характерно, что он и в этом случае, как и в эпизодах с участием Трисмегалоса, использует привычные методы сатирического романа. Речь идёт о полемическом намёке во время застольного разговора между поэтами, филологами, актёрами и т. д., куда Чистякова пригласил один знакомый ему «поэт». За беседой отдельные гости, придя в азарт, ввязываются в спор, завершающийся общей дракой. Стоит сравнить с этим, к примеру, «Жиль Бласа», где точно также знакомый и «поэт» приглашают рассказчика на застольную беседу, в ходе которой сталкиваются друг с другом различные мнения, и которая равным образом заканчивается потасовкой в цехе поэтов [782]. При этом Лесаж, точно так же как его русский преемник, полемизирует в качестве защитника простого, «естественного» языка против сконструированной и вычурной манеры. Вот только у него, конечно, представителем этого направления является не «творец языка» и архаист Шишков, а – согласно обрисованной ситуации – гонгоризм (имеется в виду творческая манера Луиса де Гонгора-и-Арготе (1561–1627), испанского поэта эпохи барокко. – Прим. пер.) и (перенесённая на собственную ситуацию Лесажа), precieuse (жеманная, капризная. – Франц., прим. пер.) манера. Следовательно, остаётся основное направление полемики и техника, с помощью которой эта полемика вписывается в роман. Приём этот стар, но следуют превращение в специфически русское и прямое рассмотрение особой литературной ситуации.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:









![Борис Райков - Предшественники Дарвина в России [Из истории русского естествознания]](/books/1094103/boris-rajkov-predshestvenniki-darvina-v-rossii-iz.webp)