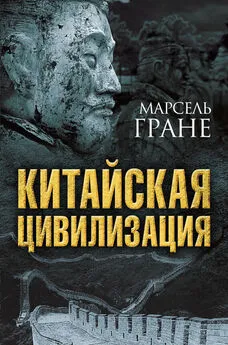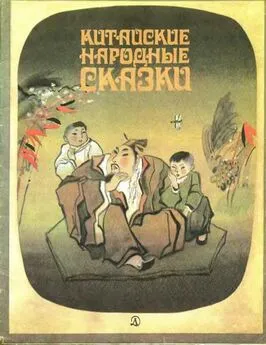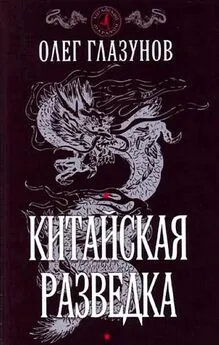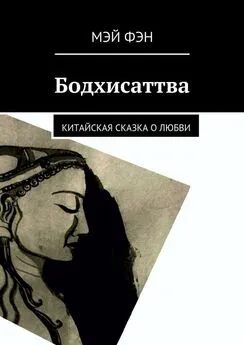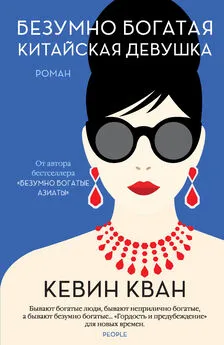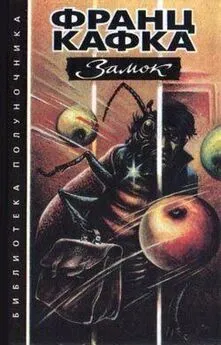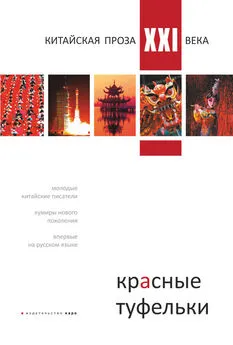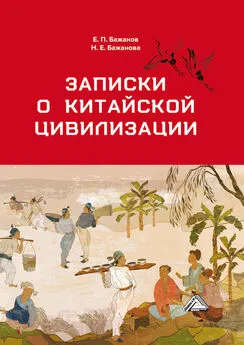Марсель Гране - Китайская цивилизация
- Название:Китайская цивилизация
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛитагентАлгоритм1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9265-0539-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Марсель Гране - Китайская цивилизация краткое содержание
Китайская цивилизация – пожалуй, самая загадочная для европейского человека. Китай с древнейших времен развивался «неправильно», не так, как западный «цивилизованный мир». Красочная панорама великой истории Китая, которую разворачивает в своей книге признанный классик французской ориенталистики Марсель Гране, послужит внимательному читателю ключом к пониманию и современного Китая.
«Китайская цивилизация» считается основополагающим трудом в синологии. Работа Гране дает целостную картину жизни древнекитайского общества, воспроизводимую в органическом единстве с исследованием китайского менталитета. Ярко описывает различные стороны общественной и частной жизни китайцев, быта людей: труд, семейные и брачные отношения, пища, одежда, ритуалы, обряды, кодексы чести, социальная иерархия, охватывающий все стороны жизни этикет.
Китайская цивилизация - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Мифоритуалема творческой гибели и переходности отнюдь не была в конфуцианстве и даосизме только философским символом, обретая понятийный характер, она сохраняла свой жизненно конкретный смысл. Она стала неким религиозно-мифологическим нервом, одним из наиболее чувствительных ингредиентов китайской ментальности, не нарушавших, а, напротив, способствовавших сохранению цивилизационного единства китайцев. Ее сочетание с более формализованными, даже рационалистическими идеями в общем не характеризовалось двойственностью или противоречивостью, как иной раз пишут, в своем соединении с ними она составляла, скорее, их «изнаночную» сторону.
Именно к такому целостному пониманию рационально-мистического в китайской традиции и подводит книга Гране, в которой намечается непрерывная линия преемственности от магии и религии феодальной поры древнекитайской истории к различным формам неомифоло-гизма и мистицизма последующих эпох. Французский синолог пишет, что, несмотря на очевидное воцарение в Китае «к началу имперской эпохи» чрезвычайно формальной «системы протокольных отношений», ограничением для нее был «мистицизм в придворных кругах», не менее сильный в крестьянской среде, где «сохранились совершенно свежими некоторые мистические идеалы, восходящие к отдаленнейшим временам». Здесь мистичность сопоставляется с «условным этикетом», то есть с чем-то искусственным, являющимся делом рассудочного усвоения, а не целостного восприятия, чему противопоставляется духовная «непосредственность», «ценимая честными людьми» возможность при принятии ими этикетных условностей «сохранить своего рода укрытую независимость и глубинную гибкость жизни разума». Эта возможность как раз и коренится в ритуалеме творческого пограничного состояния, на которое были просто обречены «честные люди» Китая.
Методическое значение книги Гране проявляется еще и в том, что она совершенно необходима для конкретного понимания каких-то отдельных древнекитайских текстов. В качестве примера можно рассмотреть упомянутую в ней песню из «Книги песен» («Ши цзин»), которая посвящена описанию красоты княгини Чжуан Цзян, жившей в VIII в. до н. э. Ввиду того что эта песня прекрасно демонстрирует многие выявленные Гране особенности китайского менталитета, приведу в переводе ее текст полностью:
Красавица она высокая,
Парча на ней под летним платьем.
Дитя она владыки Ци,
Супруга вэйского владетеля,
Сестра наследника престола,
Свояченица князя Син,
Князь Тань приходится ей зятем.
Персты ее словно росточки
И кожа гладкая, как масло.
И выя, как в ветвях личинка,
И зубки словно в тыкве семечки.
Чело цикады, брови бабочки.
Смеясь, чарует ямочкой на щечке,
Очей прекрасных ясен взгляд.
Она красива, высока,
В предместье встала отдохнуть.
И жеребцы в упряжке рослы,
На сбруе украшения рдеют.
Повозки верх в фазаньих перьях.
Чинам уйти пораньше надо,
Не утруждать делами князя.
Река могуча, широка,
Течет на север безумолчно.
Забрасывают в нее невод,
И бьются в нем уже осетры.
Тростник поднялся высоко.
Все девы дома Цзян нарядны,
Мужи могучи и грозны
Прежде всего возникает вопрос: что же это за описание женской красоты, которой посвящена только одна (вторая) строфа из четырех? И не может, конечно, оставаться без объяснения такой пиетет перед рослостью красавицы и ее какая-то уж очень сближенная с флорой и фауной наружность. Хотя Гране в своем кратком изложении этой песни не дает специальных пояснений, но ими, по существу, становятся многие положения его «Китайской цивилизаций».
Первая строфа дает родословный «портрет» красавицы штрихами ее многократно умноженного княжеского достоинства: она и княжеская дочь, и супруга князя, и сестра наследного принца, и близкая родственница, по браку своих сестер, двум другим князьям. Можно сказать, что княгиня Чжуан Цзян представлена здесь как «коллективная личность», которая объединяет и замещает в своем лице женскую половину высшей державной знати нескольких родов и уделов. Она концентрирует в себе также и власть в княжестве, поскольку, по Гране, державный «авторитет» первоначально «принадлежит прежде всего княжеской чете в целом» (князь называет себя не отцом народа, а его «отцом и матерью»). Княгиня делит с князем магию власти, состоящую в том, что от здоровья князя зависит благополучие его удела; он поглощает все благодатные силы мироздания и одновременно питает ими свой край и окружающую природу.
Поэтому рослость княгини является не чем иным, как символом находящегося в расцвете княжеского могущества, и символом отнюдь не условным. Примечательно, что слово «красавица» («шо-жэнь»), каким она называется, буквально означает «великий человек». Сближенная с флорой и фауной наружность Чжуан Цзян свидетельствует о ее открытости живительным токам окружающей природы. Чисто человеческим в данном описании может показаться только то, что относится к улыбке и взгляду, глазам красавицы. Но ясность, чистота, лучезарность – один из типичных образов этого произведения. В синонимическом ряду своих различных оттенков он восходит к Небу, рисовавшемуся в воображении древних китайцев в виде божества, которое в отдельных одах и гимнах из того же песенного свода прямо отождествляется с сиянием, светом («мин», «чжао»). Именно от Неба идет светоносность, и в светоносности заключается высшая красота, аналогичная в некоторой степени понятию «текучей сущности», которым А. Ф. Лосев определяет характерное для гомеровских поэм представление о лучистой, светоносной красоте. В песнях «Ши цзин» ясность, чистота, светоносность – действительно подобие некой «текучей сущности», которая, с одной стороны, тождественна явлению (явленна), а с другой – представляет собой непостижимый, управляющий всем источник сущего и высший источник всяческой возможной благодати. Приобщенность к нему, равнозначная довольству и счастью, и запечатлевает очаровательная улыбка Чжуан Цзян.
Рассмотренная выше сущность составляет наиболее значимое и тонкое в том, что «поглощают» и чем «питают», по Гране, князь, а значит, и княгиня в качестве «отца и матери народа». Небесная по происхождению, она мистически, самым непосредственным образом воздействует через них на окружающее. Этому сакральному воздействию, носителем которого в данном случае становится Чжуан Цзян, и посвящены две последние строфы.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: