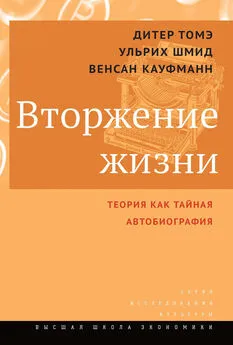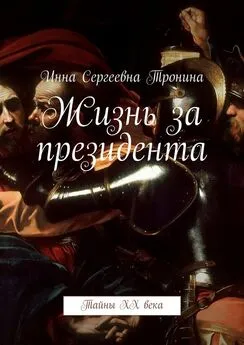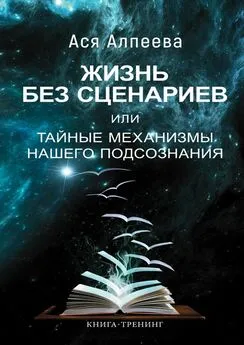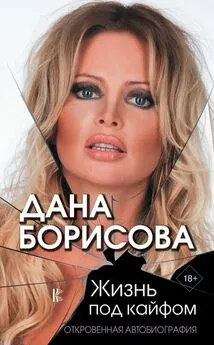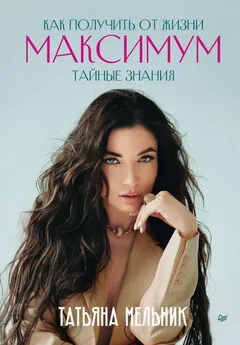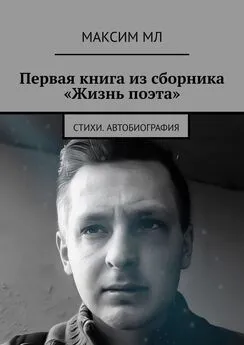Дитер Томэ - Вторжение жизни. Теория как тайная автобиография
- Название:Вторжение жизни. Теория как тайная автобиография
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛитагентВысшая школа экономики1397944e-cf23-11e0-9959-47117d41cf4b
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7598-1608-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дитер Томэ - Вторжение жизни. Теория как тайная автобиография краткое содержание
Если к классическому габитусу философа традиционно принадлежала сдержанность в демонстрации собственной частной сферы, то в XX веке отношение философов и вообще теоретиков к взаимосвязи публичного и приватного, к своей частной жизни, к жанру автобиографии стало более осмысленным и разнообразным. Данная книга показывает это разнообразие на примере 25 видных теоретиков XX века и исследует не столько соотношение теории с частным существованием каждого из авторов, сколько ее взаимодействие с их представлениями об автобиографии. В книге предложен интересный подход к интеллектуальной истории XX века, который будет полезен и специалисту, и студенту, и просто любознательному читателю.
Вторжение жизни. Теория как тайная автобиография - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В конечном счете эпохальное достижение Достоевского, по Бахтину, состоит в том, что он освободил своих литературных героев от тоталитарного господства автора:
Достоевский произвел как бы в маленьком масштабе коперниковский переворот, сделав моментом самоопределения героя то, что было твердым и завершающим авторским определением. <���…> Не только действительность самого героя, но и окружающий его внешний мир и быт вовлекаются в процесс самосознания, переводятся из авторского кругозора в кругозор героя. <���…> Рядом с самосознанием героя, вобравшим в себя весь предметный мир, в той же плоскости может быть лишь другое сознание, рядом с его кругозором – другой кругозор, рядом с его точкой зрения – другая точка зрения на мир. Всепоглощающему сознанию героя автор может противопоставить лишь один объективный мир – мир других равноправных с ним сознаний . [295]
Формулировки в книге Бахтина о Достоевском почерпнуты не из риторического арсенала литературы, а из философии жизни. Если внимательно прислушаться к Бахтину, можно понять, что он говорит не о вымышленных персонажах, а о живых людях:
Самосознание героев у Достоевского сплошь диалогизировано: в каждом своем моменте оно повернуто вовне, напряженно обращается к себе, к другому, к третьему. Вне этой живой обращенности к себе самому и к другим его нет и для себя самого. В этом смысле можно сказать, что человек у Достоевского есть субъект обращения. О нем нельзя говорить, – можно лишь обращаться к нему. [296]
Интерпретация Бахтиным Достоевского получила всемирную известность; его аналитические понятия «полифонии» и «диалогичности» были с тех пор применены ко многим другим литературным и общественным явлениям. Обращаясь к форме автобиографии, можно сказать, что клин, вогнанный Бахтиным между автором и его вымышленными персонажами, можно хорошо применить, чтобы расколоть идентичность на человека, рассказывающего свою жизнь – и живущего своей жизнью. Этой разницей между письмом и жизнью он торит путь, которым в различных вариантах пошли многие другие теоретики, упоминаемые в этой книге. Это также объясняет, почему Бахтин – главным образом, при посредничестве Цветана Тодорова и Юлии Кристевой – стал гарантом постструктуралистской теории текстуальности. При таком включении Бахтина, конечно, оказывается искаженным мотив, который в конечном счете можно повернуть и против этой теории текста. Такой демонтаж тотальности вносит то различение теории и действительности, а также письма и жизни, которое можно вполне прочитать в духе дерридеанской differance:
Человек до конца невоплотим в существующую социально-историческую плоть. Нет форм, которые могли бы до конца воплотить все его человеческие возможности и требования, в которых он мог бы исчерпывать себя весь до последнего слова <���…>, которые он мог бы наполнить до краев и в то же время не переплескиваться через края их. Всегда остается нереализованный избыток человечности… [297]
Но Бахтин не довольствуется абстрактным принятием к сведению этого «избытка» или этого различения. Он стоит ближе к Батаю, чем к Бланшо или Деррида. Можно сказать, у него «говорение» и «писание» функционируют не как существительные, а в глагольном режиме, как воплощенная деятельность. Это также означает, что они не являются анонимными, бессубъектными процессами, но остаются подчиненными писателю и говорящему. Жизнь – это не только ускользающий референт, пресловутое означаемое слова, она принадлежит самому слову, – это, как говорит (в вышеприведенной цитате) Бахтин, «живая обращенность к себе самому и к другим». [298]Люди не только говорят о себе, они говорят сами за себя и обращаются к другим. Не замкнутый текст, но эти речевые акты, эти выходы из себя являются областью автобиографии.
Малоизвестен скепсис Бахтина по поводу собственной книги о Достоевском. В последние годы жизни Бахтин сетовал, что увяз в своей работе над Достоевским в формальных аспектах и не смог высказать важнейшего. Бахтин имел в виду религиозную концепцию Достоевского и проблематичное присутствие Бога в его текстовом универсуме. [299]Бахтин умолчал, таким образом, тему, имевшую для него наивысшую автобиографическую важность. Кроме того, от Бахтина не ускользнуло и то, что для Достоевского предел многоголосию в его романах был положен абсолютной обязательностью гласа Божьего. В примечательном месте в «Бесах» Достоевский вкладывает в уста героя положение, им самим сформулированное в одном частном письме во время сибирской ссылки: «…если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной». [300]Бахтину, принадлежавшему в молодости к различным религиозно-философским кругам и кружкам, [301]эти слова служили своего рода ориентиром и во многом объясняют притягательность для него Достоевского. Основополагающий принцип, что Слово Божье стоит выше людских голосов, Бахтин не мог, конечно, в явной форме сформулировать ни в первом издании 1929 года своей книги о Достоевском, ни в ее втором расширенном издании 1963 года. Эта книга посвящена, таким образом, предмету для Бахтина важному, но второ степенному. Открытость межчеловеческого диалога для него осмысленна только тогда, когда она встроена в откровение Слова Божьего. Первостепенна всеохватывающая божественная любовь, благодаря которой только и возможен контакт между я и ты: «Только в боге или в мире возможна для меня радость, то есть только там, где я оправданно приобщаюсь к бытию через другого и для другого, где я пассивен и приемлю дар». [302]
Бог в работах о Достоевском не упоминается. Но Бахтин молчит так громко, что эта тишина отзывается вплоть до позднейших его трудов.
Не исключено, что именно – по крайней мере при поверхностном рассмотрении – необязательность, неокончательность диалогической истины заставила Бахтина обратиться в конце 1930-х годов к Гёте. Уже в витебском бахтинском кружке царил форменный культ Гёте: на рабочем столе Павла Медведева стоял портрет Гёте, Валентин Волошинов планировал перевод «Западно-восточного дивана». Бахтин работал над книгой о «романе воспитания» и над другой книгой, уже целиком посвященной Гёте; их публикацию автор планировал соответственно в 1938 и 1943 годах. [303]Имплицитно Бахтин ставил Гёте даже выше Достоевского, поскольку национальный немецкий поэт обладал способностью воспринимать историческое время пространственно. Опираясь на Фридриха Гундольфа, видного литературоведа круга Штефана Георге, Бахтин толкует Гёте как «Augenmensch», способного «видеть» абстрактное. [304]Поэтому Бахтин характеризует Гёте как «реалистического» писателя – разумеется, «реализм» следует понимать здесь в смысле спора об универсалиях: реальное – это абстрактное, проявляющееся в чувственном мире.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: