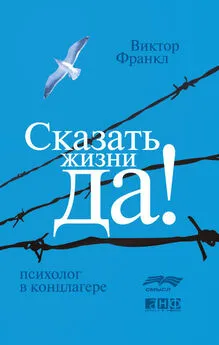Виктор Франкл - Доктор и душа: Логотерапия и экзистенциальный анализ
- Название:Доктор и душа: Логотерапия и экзистенциальный анализ
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Любовь Борисовна Сумм
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9614-4430-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Франкл - Доктор и душа: Логотерапия и экзистенциальный анализ краткое содержание
Доктор и душа: Логотерапия и экзистенциальный анализ - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Эвтаназия
Не должны ли мы теперь задать себе вопрос, имеем ли мы право отнимать у обреченного больного шанс умереть «своей смертью», шанс до последнего момента своей жизни наполнять ее смыслом, даже если единственные доступные ему теперь ценности – ценности позиции, то есть то, как «страдающий» принимает страдание в свой высший и заключительный момент. Его смерть, своя смерть, полностью принадлежит его жизни и завершает ее: только смерть и придает жизни осмысленную полноту. Здесь мы сталкиваемся с проблемой эвтаназии, но не только в смысле облегчения смерти, а в более широком смысле умерщвления из милосердия. Эвтаназия в узком смысле слова никогда не представляла проблемы для врача: само собой разумеется, что врач старается облегчить агонию с помощью лекарств; момент, когда следует использовать эти лекарства, – вопрос деликатности и не требует теоретического обсуждения. Но сверх облегчения смерти, эвтаназии в собственном смысле слова, многократно и с разных сторон совершаются попытки узаконить уничтожение жизни, которая-де «не имеет смысла». На это можно возразить лишь вот что: прежде всего, врач не призван судить о ценности человеческой жизни или отсутствии таковой. Общество возложило на него лишь задачу помогать там, где это возможно, облегчать боль, где ее нужно облегчить, исцелять, пока есть надежда, и обеспечивать уход, если уже нельзя вылечить. Если пациенты и их родственники не будут уверены, что врач буквально и со всей серьезностью выполняет эту свою обязанность, врач навсегда лишится доверия. Больной в любой момент сомневался бы, приближается к нему целитель или палач.
Эта принципиальная позиция не допускает никаких исключений также и там, где речь идет не о неизлечимых болезнях тела, а о неизлечимых болезнях духа. Да и кто может предсказать, долго ли еще считающийся неизлечимым психоз будет рассматриваться как неизлечимый? Мы не вправе забывать, что диагноз «неизлечимый психоз» представляет собой субъективное суждение, которое невозможно считать настолько объективным, чтобы на его основании выносить приговор, жить пациенту или не жить. Нам известен случай, когда человек пролежал в ступоре пять лет, так что мышцы ног у него атрофировались и силы его поддерживали искусственным питанием. Если бы этот случай представили на обсуждение медицинской комиссии, нашелся бы и такой специалист, которой задал бы известный вопрос: «Не лучше ли нашего больного уничтожить?» Но жизнь дала наилучший ответ на этот вопрос. В один прекрасный день больной потребовал себе нормальный обед и пожелал встать с постели. Ему пришлось делать упражнения, пока забывшие о ходьбе ноги не научились вновь его носить, но несколько недель спустя он вышел из больницы и вскоре уже читал лекции в Народном университете – рассказывал, представьте себе, о путешествиях, которые он совершал до болезни. И он представил узкому кругу психиатров полный отчет об этих годах и самоописание болезни – к величайшему неудовольствию некоторых санитаров, которые позволяли себе скверно с ним обращаться, отнюдь не ожидая того, что он спустя годы сможет обо всем рассказать подробно и связно.
Можно вообразить и такой аргумент: пациент с психическим расстройством не способен соблюсти свои интересы, и мы, врачи, выступая от имени недееспособного больного, соглашаемся его умертвить, поскольку есть основания полагать, что больной и сам лишил бы себя жизни, если бы помрачение разума не препятствовало ему различать свою дефективность. Но я отстаиваю противоположную позицию: врач должен служить праву на жизнь и воле к жизни, а не отнимать у пациента это право и эту волю. Поучителен случай, когда молодой врач заболел меланосаркомой и сам поставил себе верный диагноз. Коллеги тщетно пытались его успокоить, подсовывая ему благополучные анализы (для этого пришлось подменить образец его кожи кусочком кожи другого пациента). Ночью этот врач прокрался в лабораторию и сам проверил анализ. Болезнь развивалась, опасались самоубийства, но как повел себя этот врач? Он все более сомневался в своем изначальном верном диагнозе, и, когда метастазы проникли уже в печень, он предпочел «обнаружить» у себя другое, нестрашное заболевание печени. Так он бессознательно обманывал самого себя, так на последних стадиях проявляется воля к жизни. Эту волю к жизни мы обязаны уважать и не отнимать, вопреки этой воле, у человека жизнь во имя какой бы то ни было идеологии.
И еще один часто встречающийся довод. Говорят, что пациенты с неизлечимой душевной болезнью, особенно же умственно отсталые с детства, представляют собой лишнюю экономическую тяготу для общества, они непродуктивны и совершенно бесполезны. Как опровергнуть этот аргумент? На самом деле идиот, способный хотя бы толкать тележку, «продуктивнее» бабушек и дедушек, чахнущих в доме престарелых, но мысль умертвить их по причине их экономической непродуктивности ужаснула бы даже тех, кто прибегает к критерию пользы для общества. Ведь приходится признать, что человек, окруженный любовью близких, является уникальным и незаменимым объектом их любви и тем самым его жизнь обретает смысл, пусть и совершенно пассивный. Но не все знают о том, что как раз умственно отсталые дети особенно любимы родителями и в своей беспомощности окружены нежнейшим уходом.
Непреложная обязанность врача – спасать, где можно, не исчерпывается, по нашему мнению, и тогда, когда пациент покушался на самоубийство и в результате его жизнь висит на волоске. В этой ситуации врач сталкивается с вопросом, предоставить ли самоубийцу избранной им судьбе или же нет, противостоять ли воле, которую пациент воплотил в действии, или же отнестись к ней с уважением. Ведь можно сказать, что врач, который вмешивается после попытки самоубийства, борется с судьбой вместо того, чтобы предоставить ей свободно осуществиться. На это мы возразим: если бы «судьбе» было угодно, чтобы этот человек, пресытившись жизнью, умер, то нашлись бы такие способы и средства покончить с собой, что никакая медицинская помощь уже не спасла бы. Но поскольку «судьба» предала самоубийцу еще живым в руки врача, врач обязан поступать по законам своей профессии и ни в коем случае не может превращаться в судью и решать по личным и мировоззренческим заслугам, кому жить, кому умереть.
Самоубийство
До сих пор мы рассматривали проблему самоубийства снаружи, со стороны врача, но теперь мы рассмотрим ее изнутри, с точки зрения самоубийцы, и проверим внутреннюю правоту его мотивов.
Прежде всего поговорим о так называемом «самоубийстве отрицательного баланса», то есть о ситуации, когда человек приходит к добровольному желанию смерти, подведя итоги своей жизни. После обсуждения проблемы «удовольствия как смысла жизни» мы уже вполне понимаем, что баланс удовольствий в любом случае окажется отрицательным. Итак, следует спрашивать лишь, может ли баланс ценностей за всю жизнь оказаться отрицательным, причем до такой степени, что дальнейшее существование покажется бессмысленным. Мы вообще считаем сомнительным, чтобы человек был в состоянии с достаточной объективностью подвести свои жизненные итоги, в особенности когда слышим утверждение, что ситуация безысходна и единственный путь – самоубийство. Даже если это утверждение вполне искренне, сама искренность остается достаточно субъективной. Если хотя бы один человек из многих, кого убеждение в безнадежности их положения подтолкнуло к самоубийству, окажется не прав, если хотя бы одному-единственному откроется и другой выход, то тем самым неоправданна будет всякая попытка самоубийства: ведь субъективная, одинаково твердая убежденность присуща всем, кто решается на самоубийство, и никто не может знать заведомо, объективна и оправданна ли именно его убежденность, или, быть может, уже ближайший час разоблачит это заблуждение – час, в который этого человека уже не будет в живых! Чисто теоретически можно было бы еще рассуждать о самоубийстве как о сознательно приносимой жертве, но эмпирически мы убеждаемся, что в реальной жизни мотивы даже такого самоубийства слишком часто проистекают из досады и мстительности или что даже в таких случаях порой находится вдруг выход из ситуации, казавшейся безнадежной. Итак, практически можно утверждать, что самоубийство никогда не бывает оправданно. Даже как искупление – тоже нет. Ведь подобно тому как самоубийство отрезает возможность расти и созревать в своем страдании (осуществляя ценности позиции), так же оно отрезает возможность тем или иным способом искупить или исправить страдание, причиненное другому. Самоубийством прошлое увековечивается, и нет возможности устранить из мира случившееся несчастье или совершенную несправедливость – из мира устраняется только «Я».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: